|
В июне 1941года мне было три
года, а четыре года мне исполнилось уже в
блокадном Ленинграде. Я помню очень мало: смутно
всплывают в памяти отдельные картинки, что-то
вспоминается из скупых рассказов мамы. Спросить
не у кого. Все мои родственники, жившие в то
время, ушли в другой мир, теперь я старшая в
семье.
Что я знаю, что вспоминается?
Жили мы в Ленинграде на улице Восстания, дом 47.
Наш дом – массивное пятиэтажное каменное здание.
Помню его всегда пыльным, черным от копоти.
Квартира была коммунальной. До войны в ней жили
три семьи. У каждой семьи по комнате, комнаты
вытянуты анфиладой, одна за другой, все окошки
во двор, свету в квартире мало. Наша комната
средняя. Соседи - пожилые люди. И хотя мы жили в
центре города, отопление в доме было дровяным. В
каждой комнате стояла круглая, упиравшаяся в
потолок, железная печка. Комната наша небольшая,
метров двенадцать, а печка почему то в центре
комнаты. На кухне – громоздкая плита, топилась
она дровами, на ней готовили, пекли пироги. Жили
«бедненько», как потом говорил отец. Часто
варили студень (дешевая и сытная еда). Когда
немцы подошли к Гатчине, то из нее бежали к нам,
на улицу Восстания, бабушка (по маме) и сестра
мамы Лёля. Зимой сюда же пришел мой
пятнадцатилетний двоюродный брат Володя – бомба
попала в его дом на улице Некрасова.
Мои родители работали в Ленинградском лесном
торговом порту. Оба они закончили Ленинградскую
лесотехническую академию. Им удалось до начала
войны запастись дровами. В подъезде под
лестницей отец соорудил сарайчик, где и лежали
наши дрова. Всю войну отец работал и жил в
порту. В годы блокады там проходила передовая
линия фронта. С нами была только мама.
Дом наш имел форму трехзвенной цепи с тремя
дворами. Дворики небольшие, каменные, мощеные
булыжником, соединялись арками, над которыми
тоже располагались квартиры. В подвале третьего
двора находилось бомбоубежище. Сохранилось в
памяти, что в бомбоубежище был полумрак, длинные
скамейки и гудящий воздух. Быть может, это был
свист и визг падающих бомб? Квартира наша
находилась на втором этаже. Когда бабушка
слегла, мы перестали ходить в бомбоубежище. Мама
рассказывала, что очень трудно было со мной: как
только начинали завывать сирены, я билась в
истерике.
Володя вспоминал, что мы выжили только потому,
что было тепло и раз в день была похлебка. Из
чего варили похлебку? Он упоминал смолу. В
лесном порту стояли огромные бочки из-под смолы.
Люди и «вылизывали» эти бочки.
Иногда к нам (своей семьи у него еще не было)
приходил брат отца – дядя Володя. Он был
геодезистом и обслуживал аэродром. Даже в
первую, самую голодную зиму летчиков кормили
сытно. После их обедов на столах столовой
оставались хлебные корки. Дядя Володя эти корки
собирал, сушил и приносил нам как гостинчик, чем
нас очень радовал.
Все трудности быта легли на маму. Она стояла в
очередях, отоваривая карточки, ходила в прорубь
за водой, меняла какие-то вещи на продукты на
Некрасовском рынке, дежурила в подворотнях,
выходила на работы по защите города (город
готовился к уличным боям).
24 апреля 1942 года было последним днем работы
Дороги жизни по льду Ладожского озера. Мы
эвакуировались накануне. Нас было пять человек:
мама, я, брат Игорь (он не ходил), бабушка
(лежачая) и двоюродный брат Володя. Должна была
ехать Лёля, но она уступила своё место Володе.
Проводив нас, она пошла в военкомат, надела
шинель и – в действующую армию.
Как величайшую драгоценность, мама взяла с собой
в эвакуацию швейную машинку Zinger. Сборный
пункт был на площади Труда, далеко от нашего
дома. Собирали всех с вечера, а отправлялись в
дорогу утром. Ехали на грузовых машинах, крытых
брезентом, дверцы кабин водителей были сняты.
Колеса утопали в водяной каше из снега и льда.
Тяжело, медленно, но доехали до восточного
берега Ладоги. Там всех направили в столовую.
Голодные люди набросились на еду. Ели и ели, не
могли остановиться. А потом начались колики. И
когда ехали в поезде, то на каждой остановке из
вагонов выносили трупы.
На конечной станции ленинградцев ждали подводы
из деревень. Больных велено было сдать в
больницу. Мама отправилась с двумя лежачими
больными – бабушкой и братом Игорем. Бабушку она
сдала. Женщина, принимавшая больных,
посоветовала: «Не оставляйте ребенка, у нас он
точно умрет. Обманите старика-возницу, может
быть, вам удастся сынишку выходить».
Спасибо доброй женщине, мама выходила Игоря, а
бабушка умерла в больнице. Мама завернула малыша
с головой в большой платок и кинула, как тючок,
на телегу. Братишка время от времени стонал,
старик оборачивался. А мама прижимала меня к
себе и приговаривала: «Потерпи, Наточка! Недолго
уже, скоро приедем. Потерпи, родная!» Когда
приехали в деревню, мама сразу развернула
платок. Старик увидел малыша: «Так вот, кто
пищал! Обманула меня!» Но он не выдал маму.
Игорь в деревне ожил. Однако блокада отняла у
него здоровье. Он всю жизнь страдал: мучили
головные боли, высокое давление, в непорядке
было глазное дно, сводило судорогами ноги.
Разумеется, он был белобилетником. Умер брат от
инсульта в 59 лет. Получается, что мама, выходив
его в эвакуации, подарила ему 57 лет жизни!
Мне вспоминается неширокая извилистая речка. На
высоком берегу её – наша деревня. В колхозе мама
работала счетоводом, а вечерами шила.
Деревенские женщины благодарили её продуктами:
кто чем мог. Как портниха мама была самоучка и
стеснялась своих работ. Но семью надо было
кормить! Брат Володя тоже работал в колхозе.
Маленького роста, худенький парнишка трудился за
мужика. Он научился запрягать лошадей, пахать,
косить. Когда Володе исполнилось семнадцать лет,
его призвали в ряды Советской Армии. Мама
считала, что ему повезло: он попал в
артиллерийское училище, а в действующей армии
оказался за два дня до капитуляции Германии. Жив
остался!
Мы с Игорем бегали по полям, искали травку,
которую можно есть. Нас научили снимать смолу с
сосен, вымачивать ее в речке и жевать.
Замечательная получалась жвачка. Отвлекала от
еды, а зубы какие были белые! Чем питались? Не
помню. Слышала про какие то пестики, их собирали
на полянках, что - то из них варили. Хорошо
помню, что деликатесом была свекла! Её готовила
хозяйка дома по праздничным дням в русской
печке. Так и вижу, как она ухватом вынимает
чугунок из печки, а там – сладкая свекла! И
сейчас еще «слюнки текут», как вкусно! Я
просила, спустя годы, испечь мне свеклу, но
ничего подобного не получалось.
Маме удалось как-то устроить нас с Игорем в
детский дом в городе Кирове. Помнится, что
кроватки стояли тесно, и спали дети валетиком.
На каждой кроватке по двое, головы в разные
стороны.
В Ленинград мы вернулись в конце сентября 1944
года.
Сфотографировались на пропуск для возвращения в
Ленинград. У мамы сдвинуты брови, сжаты губы,
напряжено утомлённое лицо. Маме тридцать один
год, а можно дать лет на пятнадцать больше.
С нами приехала еще девочка Галя. Она
эвакуировалась с бабушкой, а бабушка в эвакуации
умерла. Мама взяла Галю в нашу семью. К счастью,
дом наш выстоял блокадные дни, и мы поселились в
довоенной квартире. Галя жила с нами недолго,
она поступила учиться в техникум, переехала в
общежитие, а потом разыскала в Ленинграде свою
родню. Мне исполнилось семь лет, и я должна была
пойти в школу, но вместе с братом еще два года
ходила в детский сад, так как в квартире кроме
нас других жильцов не было, некому было за мной
приглядеть. Мама работала в лесном порту далеко
от нашего дома. Она рассказывала, что приводила
нас рано утром первыми к дверям еще закрытого
детского сада. Вечером же мы уходили последними.
Мы одевались, садились на улице на скамеечку у
дверей закрытого детского сада, ждали маму.
Рядом топталась воспитательница, караулила нас.
Радио в квартирах не выключалось. И вот,
девятого мая в шесть утра в нашей квартире
заговорило радио: «Война окончена!». Радость без
границ! Заскрипели ключи в замочных скважинах
квартир, загремели падающие крюки (ленинградцы
входные двери закрывали на огромные чугунные
крюки), захлопали двери. Все жильцы подъезда, в
чем были, выбежали на лестничные площадки,
смеялись и плакали, носились по этажам,
бросались в объятья друг друга. Дом наполнился
ликующими женскими и детскими голосами. Все
устали от войны, все ждали победу! Дождались!
Вот она Победа!
Когда Игорю исполнилось семь лет, мама отправила
нас в школу. Наконец я, девятилетний переросток,
стала школьницей. Демобилизовалась тетя Лёля,
стала жить с нами. Появился отец, до этого
времени я не помню его. Игорь учился в мужской
школе на улице Салтыкова-Щедрина (теперь
Кирочной улице), а я – в женской, на улице Петра
Лаврова (теперь Фурштадской). Мне очень не
нравилось, что я – первоклассница. Мама стала со
мной заниматься, с ней я освоила программу
первого класса, и к новому году меня перевели во
второй класс. Ну так еще терпимо: брат – в
первом классе, а я – во втором! От начальной
школы у меня осталось отвращение к квашеной
капусте. После уроков нас водили в столовую и
кормили обедом. Одно и то же каждый день: щи из
квашеной капусты и на второе – тушеная квашеная
капуста с подливочкой из американских мясных
консервов. Вся школа, как мне казалось, пропахла
квашеной капустой!
Никого из бабушек и дедушек я не помню. Одна
бабушка умерла по дороге к месту эвакуации, а
остальные умерли в Ленинграде в первую лютую
блокадную зиму и похоронены где-то в братских
могилах на Пискаревском кладбище. О нас
заботилась только мама. Первые послевоенные годы
жили трудно. Мама к праздникам по каким-то
известным ей рецептам варила нам конфеты,
лицевала пальто, из своих платьев перешивала мне
платья, из своих кофт перевязывала нам свитера и
носки.
Летом 1947, 1948 годов мама снимала на время
своего отпуска «дачу» в Павловске. Это была
маленькая подсобная комнатка в деревянном доме
недалеко от Чугунных ворот парка. Павловск два с
половиной года был занят немцами. Мы много
гуляли с мамой и видели следы оккупации. Стоял
обгорелый, с изуродованными стенами, черными
пустыми проемами окон дворец, были разрушены
павильоны, разорен парк. При нас шли
восстановительные работы. Уже восстановили
мостики, была поставлена скульптура, которую
удалось спрятать в подвалах дворца и закопать в
землю.
Велась посадка деревьев вместо тех, что были
срублены немцами и вывезены в Германию.
Возрождались природные пейзажи Пьетро Гонзага.
Мы любили ходить к его Белым березам. По дороге
туда налево и направо открывались разноцветные
поляны: желтые, белые, розовые, голубые. А там
хороводом стояли 19 берез и в центре круга –
двадцатая березка. Березки были тоненькие,
низенькие с мелкими и слабыми, но зелеными
листочками.
Мы переехали с улицы Восстания в другой район,
тетя Лёля осталась жить в старой квартире. В её
комнате всегда было темно, так как окно выходило
в подворотню. Она все ждала, что вот-вот дом
поставят на капитальный ремонт. У неё будет
светлая комната, в комнате не будет железной
печки, уберут громадную плиту на кухне, не надо
будет ходить в баню, появится ванная комната. Не
дождалась! Дом поставили на капитальный ремонт,
но уже после её смерти. Прошло больше сорока лет
после окончания войны, прежде чем дошла очередь
до нашего дома! В конце восьмидесятых я была на
ул. Восстания, наш дом не узнала. Какой
красивый! Он стал розовым с белой лепниной, на
нем проявилось ажурное чугунное кружево. Нет
двориков, исчезли перегородки с арками, нет
нашего подъезда – его вырезали. Теперь здание
имеет форму разомкнутого овала. В квартирах,
вероятно, стало намного светлее.
На основании выписки из домовой книги в 1993
году я, как бывший малолетний блокадник,
получила знак «Жителю блокадного Ленинграда».
Этим знаком я очень дорожу.
Теперь я смолянка. Занесло меня в Смоленск
ветром распределения после аспирантуры. Так
получилось, что распределили меня в этот город
на всю мою жизнь. И не заметила, как проработала
сорок лет доцентом кафедры геометрии
пединститута – университета. А внучка моя,
студентка этого же вуза, уже коренная смолянка.
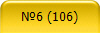 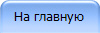
|
|