|
<...>Александра Трифоновича я
узнал с появлением в печати «Василия Теркина» во
время войны. А «Страну Муравию» несмотря на мою
жизнь в деревне и участие в коллективизации
довелось прочитать только после войны, когда из
«Теркина» и «Дома у дороги» многое знал
наизусть. После «Теркина» ловил каждую строчку,
вышедшую из-под пера Твардовского. В I960 году
приобрел книжку с поэмой «За далью даль». Новое
произведение Твардовского потрясло меня своей
правдой, гражданским мужеством и умением
говорить о недостатках, не оплевывая огульно
прошлого.
По работе в Смоленске много раз была возможность
поближе узнать самого выдающегося земляка, но
всякий раз сковывала стеснительность. Наконец,
знакомство произошло нечаянно, и было оно в
полном смысле мимолетно. И вот, когда человека
не стало, а его значение в жизни современников и
его влияние на наши души возрастает, захотелось
записать то, что помню из мгновений, так или
иначе связанных с ним.
В 1963 году древний Смоленск отмечал свое
1100-летие. В числе высоких гостей были поэты
Твардовский, Исаковский, Рыленков, маршалы
Советского Союза и руководители других областей.
Торжественное заседание проводилось в
драматическом театре. После того, как ораторы
стали повторяться, поэты потихоньку оставили
президиум и вышли за кулисы. Мне пришлось
выходить к телефону, и, возвращаясь, я
встретился лицом к лицу с ними. Н.И. Рыленков
представил меня Твардовскому, а с Исаковским мы
встречались раньше. Поэты были заняты своими
разговорами, я не стал им мешать и прошел на
свое место. Думал, что встречу всех на
праздничном ужине, но Твардовский по окончании
официальной части оделся и незаметно ушел к
родителям, которые жили в Смоленске.
Представление о поэте-гражданине сложилось у
меня на XXII съезде партии, где мне довелось
присутствовать делегатом от Смоленской партийной
организации. На съезде было порядочно писателей;
выступали Михаил Шолохов, Александр Корнейчук,
Николай Грибачев, Всеволод Кочетов. Александр
Трифонович выступил последним из них. <...>
Для нас, рядовых делегатов, особенно впервые
избранных на съезд, огромный интерес
представляли выступления писателей. Но многие из
них не произвели ожидаемого впечатления.
Глубокоуважаемый Михаил Александрович Шолохов в
своем выступлении отделался легкими каламбурами
фельетонного порядка, да ироническими
комплиментами в адрес министра культуры СССР
Екатерины Фурцевой. Речи Корнейчука и других
писателей мало чем отличались по стилю от
выступлений руководителей республик, областей и
председателей колхозов с их восторженными
самоотчетами об урожаях кукурузы, центнерах
молока, мяса и гектарах запаханных клеверов.
Особенно подхалимской была речь Корнейчука. Даже
неудобно было за писателя, на произведениях
которого мы, казалось, воспитывали себя и
подрастающее поколение. Вот одна тирада из числа
тех, которыми была пронизана вся
двадцатиминутная речь этого академика: «...Вы,
Никита Сергеевич, показали перед всем миром, как
нужно по-ленински беспредельно верить в партию,
в народ... Мы учимся у великого борца за мир
товарища Хрущева, справедливо гордимся и
восхищаемся его неутомимой, кипучей
деятельностью... Раз СССР обладает такой
огромной мощью и пока полон сил и энергии Никита
Сергеевич Хрущев, то можно спать спокойно...
Потомки с трепетным волнением и горячей
признательностью прочтут огненные слова, что
будут высечены на фронтоне этого дворца: «Здесь
проходил великий XXII конгресс строителей
коммунизма, создавший Манифест коммунизма под
руководством верного ленинца, Первого секретаря
ЦК нашей партии Никиты Сергеевича Хрущева».
Речь Александра Твардовского была другой. Он
отдал должное народу, трудом которого поднята
экономика страны после разорительной войны,
сказал о том, какими должны быть художественные
произведения, чтобы достойно представлять эпоху.
Он отметил неразрывную связь всего пройденного
нами пути со всеми многообразными путями
мирового революционного движения. Без
приторно-слащавого умиления, он был исполнен
гражданской гордостью, что «со всех континентов
и затерянных в океане островов на съезде звучали
русские слова... И право же, - восклицал поэт, -
нужно быть лишенным всякого патриотического
чувства, чтобы не испытать ... глубокого
волнения, растроганности».
Вообще, его выступление было партийным, в
ленинском поминании этого слова, полным
человеческого достоинства. От него и ожидалось
что-то иное, нежели от других, и он не обманул
делегатов. Ни одной минуты он не затратил на
заискивание, на поклоны в адрес человека,
которому, может быть, и был чем-то в жизни
обязан. В этом чувствовалась его жизненная
линия: «Там, хороши они иль плохи - дела покажут
впереди...» Его слова о литературе не были
цеховыми рассуждениями писателя о своем ремесле.
Они касались основных принципов коммунистической
нравственности. О переживаемом периоде он
говорил, как о духовном обновлении для советской
литературы, освобождении ее «от некой
скованности или стеснительности, отпечатлевшихся
на ней в силу известных антигуманных явлений,
связанных с культом личности... Вместе с
тысячами людей, которым партия... возвратила
честь и жизнь, многие наши товарищи по перу
вновь обрели свое литературное имя, свое место в
истории литературы».
Главным героем литературы Твардовский предлагал
считать жизненную правду, без чего, говорил он,
нельзя добиться нравственного обеспечения
больших экономических задач. «Читатель остро
нуждается в полноте правды о жизни», - словно
угадывая всеобщее настроение, говорил поэт. С
горечью отмечал он, что в нашей печати и радио
беспрерывно повторяется тон неумеренного
хвастовства, стремление видеть в жизни только
воскресные дни, красные числа и как бы упускать
из виду все остальные рабочие дни. Эту свою
мысль он закончил словами В. И. Ленина: «Не надо
обольщать себя неправдой. Это вредно. Это
главный источник нашего бюрократизма». <...>
Касаясь культа личности Сталина, Твардовский
предостерегал от бездумного «преодоления
ошибок»; он говорил, что нельзя «считать
образцом душевной организации полную, так
сказать, неуязвимость, состояние легкости и
бездумья, когда человеку все «как с гуся вода».
Когда Твардовский сошел с трибуны, шеститысячный
зал Дворца съездов взорвался настоящей бурей
рукоплесканий. Овация была дружнее и
продолжительнее, чем кому-либо из писателей. Она
продолжалась и тогда, когда сидящие в президиуме
сложили руки, а председательствующий нажимал на
кнопку звонка. Мне показалось, что это было
самое откровенное и чистосердечное одобрение,
идущее из глубины человеческих душ. Не сделав ни
одного ударного восклицания, Твардовский попал в
самое «яблочко» сокровенных дум коммунистов,
присутствовавших на съезде...
Тогда же произошло еще одно событие, связанное с
Твардовским. В один из вечеров делегатов съезда
пригласили в Дом литераторов. В нем принимали
нас Твардовский, Щипачев, Гамзатов, Сурков,
Марков, Полевой, Бровка, Долматовский и другие.
Смоленская делегация явилась на встречу с
писателями в полном составе, но большой зал
Центрального дома литераторов заполнен был
только наполовину.
В целом вечер удался. Соловьев-Седой под
собственный аккомпанемент пропел несколько новых
своих песен; правда, ни одна из них не оставила
в памяти следа, как его песни военного времени.
Изо всего, что пришлось тогда услышать, самым
впечатляющим было очень короткое - всего в
шесть-восемь строф - стихотворение Александра
Трифоновича. С первого восприятия возникло
ощущение, что так написать может только он – и
никто другой. Даже Пушкин и Толстой! Стихи
прозвучали, как жизненное кредо поэта. Но не все
его правильно поняли на слух: кто-то рядом со
мной пробурчал о высокомерии Твардовского: «Эко,
на кого замахнулся»... Но в стихах ни одного
слова не было, что поэт пишет лучше, выше,
глубже названных гениев. В стихотворении речь
шла об индивидуальности творчества, о том, что
он никому не подражает - даже великим. Позже я
запомнил строчки: «С тропы своей ни в чем не
соступая, не отступая - быть самим собой»...
Я тогда работал директором крупного племзавода
на Смоленщине (п/з «Сычевка» - ред.). По
возвращении со съезда собрал почти все население
совхоза, чтобы рассказать о его решениях,
поделиться впечатлениями о встречах с Юрием
Гагариным и другими интересными людьми страны.
Собрание проводили в районном доме культуры,
который был переполнен рабочими и семьями. После
моего доклада много было задано вопросов.
Рабочих волновали события, связанные с культом
личности и выносом саркофага И.В. Сталина из
мавзолея. Мне и самому не все было понятно в
действиях Хрущева, рассказавшего ужасные вещи о
человеке, который почти треть века стоял у руля
нашей великой страны. Отвечать на такие вопросы
стереотипными цитатами из выступлений
руководящих товарищей на съезде я не мог в силу
того, что они меня и самого не убеждали.
И тогда я предложил собранию послушать, что
пишет «по этому вопросу» Александр Твардовский.
При чутком молчании всего зала я от начала до
конца ... прочитал с возникшим чувством 14-ю
главу («Так это было») поэмы «За далью - даль».
Рабочие сидели словно завороженные, даже детишки
примолкли. А когда я окончил, то поразился
гробовой тишине, едва слышным всхлипываниям
женщин, изумленным восклицаниям мужчин и вдруг
взорвавшимся рукоплесканиям, не свойственным по
громкости и продолжительности для крестьян.
Продолжение следует.
 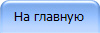
|
|