|
До пятилетнего возраста
память моя ни о ком и ни о чём ничего не
сохранила, кроме такого случая: недалеко от
хаты, на вырубленной делянке леса, уродилась
хорошая земляника. И пришла на эту делянку
взрослая дочка дальнего соседа. Вот я увидал,
что она собирает нашу землянику, и попытался её
прогнать, предложил уйти и добавил: чтоб я тебя
век вечный в глаза не видал. На это она сказала:
ты ещё маленький так ругаться. Я ответил: нет, я
не маленький, мне не три и не четыре года, а
пятый...
И больше ничего не помню из возраста моложе пяти
лет. До пяти-шести лет лучше помню деда и
бабушку, чем отца и мать.
Итак, жизнь в Загорье шла по законам природы,
без остановки.
Кроме упомянутых выше построек — отец поставил в
Загорье кузницу. Оставил возле кузницы группу
деревьев, которые там росли довольно долго и
украшали неприглядное сооружение.
Отец был одержим вырубкой и раскорчевкой
зарослей под покос и пашню ещё потому, что не
было заказов. Да их и не могло быть, — почти в
каждой из окрестных деревень были свои кузницы,
и работы в них не хватало, а наличие многих
кузниц рождало хотя и малокровную, но
конкуренцию. Поэтому кузница наша была закрыта,
оборудование и инструмент проданы. В этом
немалую роль сыграла иллюзия отца, что при
старании можно жить с земли, без кузницы. Но
прошло около пяти лет, и эта иллюзия была
утрачена под действием экономических законов.
Расчистка и выкорчевка продвигались медленно,
распашка была очень трудоёмкой, да еще выявилось
на деле, что земли, годной под возделывание
сельскохозяйственных культур, очень мало, и та
разграничена, разделена «оборками», так называли
на Смоленщине небольшие болотца. Так что даже в
воображении нельзя было представить возделанной
нормальной земельной площади в одном куске –
лапике (так называли такие бесформенные куски
пашни больше четверти десятины). И ещё выявилось
нежелательное качество нашей земли. Очень редко
рожь давала хороший урожай. Из-за обилия
зарослей много накапливалось снега, не всюду был
сток весенним водам, рожь в большинстве вымокала
и подопревала, приходилось пересеивать яровыми.
Однако яровые никак не могут заменить рожь—
главный хлеб Смоленщины.
Когда всё вышесказанное не требовало
доказательств, отец увидел, что так долго
вынашиваемые планы заманчивой, независимой,
никому не подчиненной воли, жизни на земле, — не
осуществились.
В поисках выхода из затруднительного положения
отец пошёл на довольно рискованное дело. Весной
1914 года взял в аренду на один год мизерное
имение «Чернево», принадлежащее помещице Нениле
Владимировне Долотовской. Всё имение имело
двадцать десятин, из которых сад фруктовый
занимал семь десятин, но сад отец не брал в
аренду, значит, в арендном пользовании было
тринадцать десятин. Почти вся земля была
удобной, но поскольку шла она не первый раз в
аренду, то арендаторы мало заботились об её
улучшении, смотрели — как бы больше взять, а там
— хоть потоп. Так что поступила она, то есть
земля, в распоряжение нового арендатора, как
говорили крестьяне в то время, — «выболтанная».
По первой возможной весенней дороге на колёсах
отвёз нас отец в «Чернево». К этому времени
семья наша состояла из семи душ. Со дня
поселения нас в Загорье отец и мать забыли
прежние обиды, жилье в Барсуках было продано, а
дедушка с бабушкой до конца своих дней стали
жить с нами.
В Загорье в 1912 году родилась наша сестра Анна,
вот почему семья так скоро выросла до семи душ.
Жилье в Загорье было заколочено по окнам и
дверям на косую досками.
Тетрадь третья
Чернево находилось от Загорья на север – верстах
в четырёх. Поселились мы там в обычной
крестьянской хате очень давней постройки. Печь
была русская. Чуть помнится — была перегородка.
Очень хорошо помнится сад, на который мы с Шурой
обратили внимание не сразу, а когда стали видны
яблочки на яблонях.
Хата наша стояла задней стеной к саду, и была
дверь в сад из сеней. Арендаторы сада заложили
её большой кучей колючего яблоневого хвороста, а
хода вокруг хаты не было, чтобы проникнуть в
сад. Вот потому особенно запомнилась эта дверь.
Вскоре по приезду в Чернево мы с Шурой
познакомились с такими же ребятишками из
деревни, которая находилась очень близко —
стоило перейти небольшой заросший орешником ров
— тут и деревня. Но встречались мы с первыми в
жизни друзьями на нейтральной полосе, опасаясь с
той и с другой стороны собак и сердитых взрослых
людей. Звали мальчиков — одного Мироном, второго
Поликарпом. Играли мы все вместе, но почему-то
считали, что мой друг — Мирон, а друг Шуры —
Поликарп.
Там же впервые мы с Шурой увидели необычное
жилье — дом, где жила барыня, окрашенный в
светло-розовую краску. И впервые увидели балкон,
нечто подобное крыльцу. Всё это произвело на нас
незабываемое впечатление. Ведь кроме нашей
загорьевской хаты, мы никакой другой хаты не
видели, так как дальше сорока метров от своей
хаты не бывали. А с расстояния видеть другие
хаты мешали заросли леса. Даже что такое крыльцо
— мы не знали. У нас возле порога лежал толстый
чурбак.
Ещё больше мы были удивлены, когда летом к
барыне приехали из Смоленска дочки, они были
значительно старше нас, их было три, и самая
младшая — рослее нас. До этого, живя в Загорье,
мы не только таких, но и никаких других девочек
не видели, кроме нашей сестренки, двухлетней
Нюры.
И ещё было большим удивлением — цветочная клумба
перед домом, а посредине невысокий столбик и на
нём блестящий шар.
Вечерами девочки играли в какую-то игру:
подбрасывали небольшие деревянные кольца и
ловили их на небольшие красивые палочки, а мы
как завороженные смотрели, но подходить близко
не решались. Впервые мы узнали, что есть такие
же мальчики, как и мы, увидели дубы, растущие
подальше от хаты, речку с ласковым названием
Славжа. Возле речки был огромный луг и на нём —
от края до края — очень красивые розовые цветы,
похожие на оленьи рога, но про оленьи рога мы
тогда не знали. И еще удивительное — нашими
друзьями был пойман небольшой рак, такое живое
чудо, довольно страшное. Наши друзья — Мирон и
Поликарп — были намного опытнее нас и как
местные жители лучше осведомлены об
окрестностях. С ними мы никогда не блудили. А
как было весело — вряд ли смогу передать! Скажу
только, я, сейчас пишущий эти строки
семидесятилетний старик, вспоминая далекое
детство, очень благодарен отцу, что он отвёз нас
в Чернево, и мы с Шурой увидели первые детские
радости, незабвенные и поныне.
Так легко мне пишется об этом для нас
необыкновенном лете. Главное, ничего не нужно
выдумывать, просто вспоминай, переживай вновь
золотые дни, пережитые нами в далеком-далеком
детстве...
Мы целыми днями пропадали с нашими друзьями.
Видимо, отцу и матери было не до того, чтобы
проверять, наблюдать — что мы делаем, где
бываем. Никогда после так вольно мы не жили.
Друзья нам запомнились на всю жизнь. Жаль, что
кроме описанного лета, мы их никогда не
встречали, какие они имели фамилии — мы не
знали, да и вряд ли тогда знали, что кроме
имени, есть еще и фамилия.
Для полноты и правдивости о жизни в Черневе
расскажу очень печальный, вернее, страшный
случай, который неожиданно произошёл со мной.
Как-то встретились мы с Шурой с нашими друзьями
во рву. О нём я уже говорил, но на этот раз с
Мироном и Поликарпом пришло еще несколько
мальчиков постарше. О чём мы говорили — я не
помню, но почему-то мальчики стали хвалить меня,
что я смелый и чем-то хороший. И почти сразу
дали мне поручение — перейти ров и нарвать яблок
в саду. Сад от рва не был загорожен. Я не знал,
что нельзя рвать яблоки кому вздумается, был рад
поручению и незамедлительно его исполнил. Меня
похвалили. Мне было очень приятно принимать
похвалы мальчиков более рослых и старших. Яблок
оказалось мало и, как герой дня, я снова
отправился выполнять уже знакомое задание. И
только я сорвал два яблока, росшие вместе,
произошло неведомо что — я оказался под мышкой у
высоченного садовника. И он понёс меня далеко
вглубь сада. Там у них был огромный, в виде
сарая, шалаш из тёса. Нёс же он меня по самой
густой крапиве, а ноги-то у меня голые, штанишки
короткие. Ничего мне этот садовник не говорил.
Принёс и посадил на штабель досок, и я сидел,
ожидая — какая участь меня постигнет. Сидел и
молчал, о побеге даже не мыслил, да и не знал —
можно ли бежать. И так просидел я до вечера.
Вечером Шура дома сказал, что пошёл Костя за
яблоками и пропал, не пришёл до захода солнца.
Пришёл отец, поздоровался с садовниками,
закурил, о чём-то разговаривал. Я был очень
удивлён, что отец не забоялся и пришёл к
садовникам прямо по дорожке. Потом он подошёл ко
мне, сказал: ну, пошли домой. Я был очень рад
этакому исходу и забыл про ноги, которые долго
горели от крапивы.
Это было первое событие, вызвавшее очень сложное
глубокое переживание. Никогда в жизни больше
таким манером яблок не рвал. Лето жизни в
Черневе для нас с Шурой пролетело быстро,
интересно и весело, много мы узнали, много
увидали, раньше нами не виданного.
Однажды, не помню хорошо — с утра или под вечер
— вся деревня Чернево огласилась громким
протяжным плачем женщин. Такого мы тоже никогда
не слышали. Потом все повторяли — война. Нам это
слово ничего не говорило.
Почему-то реже стали приходить наши друзья Мирон
и Поликарп. Как-то скоро подошла осень Родился
еще один брат — Иван.
Не могу точно назвать месяц, но как-то утром
усадили нас всех на телегу, отвезли опять в
Загорье. Очень мы с Шурой скучали по друзьям, по
вольно прожитому лету. В последующие дни отец
перевёз имущество. И стали мы опять жить скучной
жизнью в Загорье, в одиноко стоящей хате, чуть
ли не хатке. Новая — несколько просторнее — была
еще не готова, стояла в срубе.
В 1915 году была закончена постройкой новая хата
в три окна с небольшим крылечком. И мы переехали
в новую хату. Но здесь пришлось прибегнуть к
полатям, для семьи в восемь душ она тоже была
мала. Старая хата была еще гожа для жилья, но мы
в ней не жили.
Жизнь в Загорье в 1915 и 1916 годах была
скучная, без друзей, без общества, без
ровесников. Вся отрада была вечерами затемно
сидеть на печке и слушать рассказы бабушки о
старине, о Варшаве, а иногда дедушка заменял
бабушку. Он рассказывал о рыбной ловле и охоте
на его родине, когда он был ещё молодым хлопцем.
В этих рассказах он упоминал реку Березину и
город Бобруйск. Рассказы дедушки нас очень
интересовали, и мы их дорисовывали по-своему и
собирались, как вырастем, тоже стать охотниками
и даже хату поставить в лесу.
Незаметно ушло наше детство, встали перед нами
обязанности и заботы, и избавиться от них было
невозможно. Это — летом пасти скотину, а зимой
ходить в школу и учить уроки.
Нужно сказать, что пастьба скотины у нас не была
тяжёлой, всегда пасли двое, только не сразу, а
один до обеда, а после обеда — другой. Корову
или коров (по наличию) всегда спутывали, да и
выпас был почти весь огорожен. Самым тяжелым в
этой обязанности была скука-одиночество, а так
хотелось компании таких же, как мы, сорванцов,
но такое желание очень редко осуществлялось,
потому что скотину все хуторяне пасли на своей
земле и объединиться нам, пастушатам, можно было
только после уборки хлебов! И когда случалось
объединение трех-четырех таких пастушков — чего
тут только не было — и борьба, и игры, и
рассказы о колдунах, волках и так далее. И время
тут шло так быстро, незаметно приходил вечер,
нужно было гнать скотину домой, а так жаль —
что-то еще не закончено, и домой нисколько не
хотелось.
За 1915 и 1916 годы ничего особенного не
случилось. Осенью 1916 года мобилизовали отца в
армию. Шла война. Газет в нашей округе никто не
получал и никаких подробностей о ходе войны мы
не знали. С уходом отца все заботы и работы
пришлось взять на себя матери. Пока был отец,
нам, детям, казалось, что мать наша только и
может варить обед, стирать бельё, прясть, вязать
носки, рукавички. А когда мы увидели, что мама
наша может всё делать — даже дрова нарубить в
лесу и привезти домой, то уважение и любовь к
ней возросли. И поняли мы, что хотя и без отца,
но не пропадём.
Лето 1917 года мать хозяйничала одна, пахала,
сеяла и убирала урожай с небольшой помощью
бабушки. Дедушки уже не было, назвать точно,
когда он умер, не могу, но помню, когда стало
известно, что немец взял Варшаву, то дед не
поверил, ругался громким голосом и говорил:
«Сдохнуть ему, проклятому, а Варшаву не взять!»
Эти слова я запомнил, а когда была взята немцем
Варшава — так и не знаю. Значит, дедушка умер
после этого события.
Помню дедушку, обряженного в военный мундир,
который хранился, как у нас говорили — «на
смерть». Хоронили со священниками. Очень жаль
стало дедушку, когда вынесли и повезли на
кладбище. Особенно жалел дедушку Шура, долго
плакал. Он был любимцем деда и взаимно любил
его. Через много лет посвятил памяти деда
Александр Трифонович великолепное стихотворение.
Прочтите — «Мне памятно, как умирал мой дед»...
Для выполнения особенно тяжелых работ, которые
никак не мог осилить один человек, солдатки
собирали взаимную помощь. На Смоленщине она
называлась «толока». Всё лето 1917 года мать
одна работала и в поле, и дома. Была у нас тогда
небольшого роста серая лошадка и две коровы,
одна — очень старая. Помню, как мы, дети,
переживали беду, которая случилась у матери. В
дороге на мельницу сломалось насовсем заднее
колесо. Приехала она домой на подвязанном вместо
колеса колу. Есть такой способ — один конец кола
подвязан к корпусу телеги в продольном
направлении, середина кола подведена под конец
оси, а второй конец лежит на земле и служит
вроде полоза.
Осенью 1917 года отец по какой-то медицинской
«липе» возвратился с войны, было это еще до
Октябрьской революции.
В это время прокатились по Смоленщине погромы
помещичьих имений. Отец в погромах не
участвовал. Через несколько дней после погромов
появилась карательная сотня или полусотня
казаков. У кого находили имущество помещиков,
наказывали плетьми. От такого наказания умер
молодой здоровый парень из деревни Столпово —
Александр Лазаревич Иванов. На наши хутора
казаки не заехали. И почему-то их скоро совсем
не стало.
В эту же осень в нашу старую хату поселилась
семья Фомы Захаровича Захарова с тем, чтобы
перезимовать. Семья – такая же большая, как
наша. Сам Фома был ещё в солдатах на войне. В
этой семье был мальчик Гриша. Болели у него
глаза, но видать он видел. Дети же по
необъяснимой пакостности называли его —
Гришка-Слепец. Был он старше Шуры года на три и
умел читать. В школу он не ходил, а научился у
старшего брата Павла. Был в этой семье мой
ровесник мальчик, звали его Игнат.
Этой же осенью 1917 года мы с Игнатом стали
ходить в первый класс Егорьевской сельской
школы. В Егорьевской школе я учился и в 1918
году.
Гриша же был дома. Вот к нему и стал ходить
Шура. Играли они больше на печке, в какую игру —
им знать. Важно то, что как-то от Гриши Шура
выучил азбуку и научился читать, минуя слоги.
Перескажет все буквы, а потом — слово.
Весной пришёл с войны Фома Захарович, и семья
его переехала в село Ляхово.
Опять нам стало скучно, одиноко. Это уже был
1919 год. Лето этого года имело небольшие
радости, за которые мы расплачивались по дорогой
цене. Сын нашего соседа, намного старше нас, но
так же был одинок, вот он и обратил внимание на
нас с Шурой. Звали его Яков, по фамилии —
Савченков, по общему прозвищу приехавших из-за
Днепра — «торбулевич», как еще не взрослый. Он
был очень озорной. Шутки и действия вроде бы для
веселости граничили с хулиганством, и почти за
каждую учиненную нами оказию под руководством
Якова, нам выдавалась изрядная порция березовой
каши. Применяли к нам такую педагогику.
Однако несмотря, что больно и страшно, мы не
могли выйти из подчинения Яши, и всё
вышесказанное повторялось. Только летом 1919
года влияние Якова на нас прекратилось. Причина
этому следующая: отец очень хотел, чтобы сыны
его были образованные, как положено. И вот он
привёз из Смоленска дальнего родственника —
гимназиста 8-го класса частной гимназии
Воронина. Гимназист был рослый, хромой и
некрасивый. Звали его Николай Михайлович
Арефьев. Это был наш репетитор по подготовке к
поступлению в гимназию. Очень скоро дядя Коля,
как мы его звали, стал для нас с Шурой много
интереснее Якова, и мы совсем оставили нашего
«шефа». Привлекало нас в дяде Коле многое. Он
очень хорошо рисовал, носил форменную летнюю
гимназическую фуражку — белую с синим околышем.
А также отвечал на любой вопрос с полным
объяснением о спрошенном. Наверное, более двух
месяцев учил нас дядя Коля. Мы его любили, и
учение не казалось нам скучным и трудным.
В ту же осень отвёз нас отец в Смоленск. Жить мы
стали опять с дядей Колей, даже в одной комнате.
У отца дяди Коли — Михаила Арефьевича Арефьева в
Смоленске, на Второй Краснинской, в доме
# 32.
Дочь Михаила Арефьевича — тётя Маня — отвела нас
в гимназию, оформила, что там нужно было, и
стали мы гимназистами. Только форма у нас была
не по уставу, да ее уже и не требовали. Однако
фуражки и башлыки были форменные, а шинели
перешитые из простых солдатских шинелей.
Продолжение следует.
 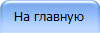
|
|