|
Во второй четверг каждого
месяца в литературной гостиной областной
библиотеки им. Твардовского проходят собрания
литературно-краеведческого клуба «Смоленская
дорога» (он создан относительно недавно при
одноименном «толстом» журнале). На последнем
«четверге» прозвучали в записи и несколько новых
песен на стихи Александра Твардовского,
написанных молодым руднянским бардом Андреем
Ивановым. Собственно, сам факт появления этих
песен заслуживает отдельного разговора, но здесь
ограничимся лишь тем, что автором-исполнителем
задуман альбом (полтора десятка песен на стихи
А.Т.), а запись диска, аранжировка
осуществляются на студии Александра Черненкова,
имя которого знакомо уже многим смолянам. Пока
записаны своего рода музыкальный эпиграф и две
песни. И если обращение барда к «Василию
Теркину» было как бы предопределено, то выбор
стихотворения «Две строчки» далеко не так
очевиден.
Вообще, кумиром Андрея Иванова давно и навсегда
стал Владимир Высоцкий. Но вот, что называется,
«вдруг» он записал альбом на стихи… Александра
Пушкина. Попытка не только неожиданная и смелая,
но, на мой взгляд, вполне состоятельная. А
почему бы не обратиться к творчеству другого
Александра, ведь не случайно любовь Андрея
заслужили поэты наиболее близкие по творческой и
жизненной позиции к А.Т. Нельзя сказать, что
предложение организаторов Твардовских чтений
таможенник из Рудни принял сразу и
безоговорочно: «Как-то трудно вот так, на заказ.
Песня получается, когда что-то задевает. А
Твардовский… Я его, мягко говоря, не очень знаю.
Посмотреть, конечно, можно». И вот Андрей
«посмотрел» и, как говорит Александр Черненков,
сразу появился в студии с тремя готовыми песнями
– задело…
Буквально на предыдущем «четверге» высказывались
опасения, что журнал «Смоленская дорога» может
«перекормить» читателей Твардовским. Дескать, не
очень выигрышная тема сегодня, когда поэзия
вообще «не пользуется спросом». Но то и пугает,
что при нынешней агрессии поп-культуры в среде
именно молодежной мы такого спроса можем не
дождаться вовсе. Нужно противостоять этому
страшному валу бездуховности и безвкусицы,
необходимо что-то противопоставлять. На всех
фронтах, как говорится.
А что мы имеем. Вот заглянул в Твардовского
Иванов – попросил побольше его стихов
«нехрестоматийных»: их нигде найти нельзя.
Московскому знакомому «показал» свою новую песню
«Две строчки» - и того «задело», спрашивает: «А
где ты такое стихотворение нашел, я никогда не
видел». Вообще стихов А.Т. попросил. Где их
взять, спрашивают многие. А им говорят, что на
рынке всё определяет спрос (т.е., кроме тебя,
отсталого, никому не надо).
Вспомнилось горькое признание В.А. Твардовской
на одной из встреч, что «мы не умеем
раскручивать хорошие книги». Речь шла о военных
дневниках и письмах А.Т. Но ведь даже и классику
– те же «Две строчки» мы не знаем. Между тем,
стихотворение это вовсе не случайно «задевает»
сегодня даже людей в поэзии неискушенных, даже
недоброжелателей, противников Твардовского,
которым нет числа. Тот же поэт Ю.Кублановский,
бывший диссидент и лауреат многих нынешних
премий, в своем растиражированном «Этюде о
Твардовском», бесцеремонно заключая, что А.Т.
был излишне связан с советской властью, не
понимал языка истинной поэзии и т.д., не
удержался от восторженных отзывов об «отдельных»
стихотворениях. В их числе и «Две строчки»,
которые он цитирует и восклицает, что вообще
«непонятно, как они сделаны». А они и не сделаны
вовсе в том плане, как понимают сегодняшние
«истинные мастера» - не сконструированы, не
высижены за столом в потугах «родить шедевр».
Как-то совершенно по-новому я сам услышал
историю о безвестном парнишке, погибшем «на той
войне незнаменитой» и оставшемся лежать «в
Финляндии на льду». Вот это бардовское
исполнение вдруг как по сердцу резануло
сегодняшней нашей болью за русских мальчишек,
так же оставшихся на «незнаменитых», стыдливо
замалчиваемых нами войнах – в Афганистане,
Чечне… А ведь песня может «пойти», подумалось во
время первого студийного прослушивания, это
сегодняшнее. Буквально через три дня началась
война в Южной Осетии, опять как только не
называемая.
В чем секрет столь удивительной живучести и
злободневности поэзии Твардовского, даже из
числа того, что написано казалось бы по
конкретному давно ушедшему в историю поводу?
Найти ответ, думаю, поможет замечательное
выступление известного московского критика
Андрея Михайловича Туркова на третьих
Твардовских чтениях в Смоленске в декабре
прошлого года, посвященное как раз стихотворению
«Две строчки». Выступление это мы предлагаем
вашему вниманию со значительными сокращениями,
полностью оно будет опубликовано в традиционном
сборнике Чтений, который сейчас готовится к
печати.
* * *
<…> Только в самое последнее время, в начале XXI
века, появились в нашей печати свидетельства
непосредственных, притом рядовых (например, А.Н.
Деревенца), участников этой кровопролитной
войны, стоившей народу почти четырехсот тысяч
человек убитыми. Из них можно получить
представление о всем трагизме происходившего и о
крайне бездарном руководстве военными
действиями, плохой подготовке даже по части
зимнего обмундирования, атаках «в лоб» и т.п.
С этими-то безыскусными правдивыми рассказами
интересно сопоставить записи, сделанные
Твардовским по горячим следам событий.
Примечательны первые же, сугубо «конспективные»:
«Третья поездка - в 43-ю дивизию. Ощущение
великой трудности войны…
Четвертая. Наступление и его печальные
последствия. Раненые. Глухая неясность: как же
все-таки быть дальше?.. Медсанбат».
Далее следуют более подробные, не чурающиеся и
глубоко личных впечатлений. Так, в начале
рассказа о поездке в 90-ю дивизию ощутим
отголосок давних, детских воспоминаний: «Шла
артподготовка. Возле батарей пахло кузницей…»
/Возле отцовской кузницы прошло детство поэта/.А
вот запись, заслуживающая быть воспроизведенной
полностью:
«На командном пункте дивизии мы были в момент
наступления. Дела шли явно плохо... Командир
дивизии грозил командирам полков, командир
корпуса, присутствовавший в землянке, вмешивался
в каждый телефонный разговор, добавлял жару:
- Вперед. Немедленно вперед…
Вскоре же картина целиком выяснилась. Наши
лежали на снегу у пpoволоки, продвинувшись на
несколько десятков метров. Они не могли ни
продвинуться вперед из-за исключительно точного
огня из укреплений, ни уже отойти назад. Они
лежали, и противник их расстреливал постепенно.
Танки помочь не могли. Они сразу же выводились
из строя».
Эти и подобные впечатления вскоре отзовутся в
«Балладе о красном знамени», хотя там речь
пойдет уже об успешном бое:
… Мы - в снегу сыпучем -
Ничком лежали на земле
У проволоки колючей.
И смельчаки из наших рот,
Бесценные ребята,
С рукой, протянутой вперед,
С винтовкой, в ней зажатой,
В сугробах сделав шаг, другой,
Навек закоченели,
И снег поземкою сухой
Присыпал их шинели.
<…> Однако продолжим запись: «К вечеру же мы
видели, как потянулся поток всякого транспорта с
передовой - везли раненых. Их везли на машинах,
на танках, на санях, на волокушах, несли на
носилках. Запомнилось на всю жизнь: везет боец
раненого. Лежит он в санях на животе, протянув
вперед темные, окоченевшие, должно быть, руки, и
тихо, невыразимо жалостно стонет. Как собака, -
пусть и недопустимо такое сравнение. А возчик
почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и
будто бы сурово и даже недовольно лежащему:
- Больно, говоришь? Руки, может, замерзли?
Сказал бы, что замерзли. Я тебе вот рукавички
дам. Дать? А то возьми. Они с рук – теплые.
Возьми, слышь».
Действительно - запомнилось на всю жизнь:
несколько лет спустя «среди большой войны
жестокой» в знаменитой главе «Книги про бойца»
«Смерть и воин» солдат «команды похоронной»,
выносящий раненого Теркина с поля боя, повторит
сказанное тем давним возчиком:
- Что ж ты, друг, без рукавички?
На-ка теплую, с руки...
Еще до того, как побывать на передовой и ощутить
«великую трудность войны», поэт предугадывал ее
и всей душой сострадал тем, кого потом, в
«Теркине», назовет «нашими стрижеными ребятами»:
«Запомнился концерт плохонькой бригады
эстрадников… Концерт шел в комнате, забитой до
отказа бойцами /сменой одной/. Ни сцены –
ничего. И лица, лица, лица красноармейцев. Иные
с таким отпечатком простоватости, наивного
ребяческого восхищения и какой-то подавленной
грусти, что сердце сжималось. Скольким из этих
милых ребят, беспрекословно, с горячей
готовностью ожидающих того часа, когда идти в
бой, скольким из них не возвратиться домой,
ничего не рассказать… И помню, впервые испытывал
чувство прямо-таки нежности ко всем этим людям.
Впервые ощутил их, как родных, дорогих мне лично
людей».
В этой записи, где уже предчувствуется «масштаб»
будущего автора «Василия Теркина» и «Дома у
дороги», проявилась и свойственная поэту
величайшая совестливость:
«Нужно еще сказать, что меня до сих пор не
покидает соображение о том, что мое место, в
сущности, среди рядовых бойцов, что данное мое
положение «писателя с двумя шпалами» (т.е. в
звании майора.- А.Т-в) - оно не выслужено /не то
слово/. Я то и дело ставлю себя мысленно на
место любого рядового красноармейца».
Не промину отметить, что поэт не только как бы
стесняется отличия своей участи от рядовой,
солдатской, но и откровенно, без утайки, нередко
с иронией фиксирует свое поведение, поступки,
душевные движения, которые «выдают» в нем
новичка в боевых условиях:
«Виник /политработник. А.Т-в/ должен был идти...
в батальон, лежащий на снегу у самого переднего
края. Я тоже решил с ним идти, хотя и не очень
решительно.... Вообще говоря, я вернулся
быстренько /в блиндаж во время обстрела. -
А.Т-в/... Вдруг канонада усилилась, как
внезапный порыв грозы... Мы, штатские люди в
военных полушубках ~ как я... даже сидя в
блиндаже, пригнули головы», и т.п.
Столь же характерно для Твардовского очень
требовательное отношение к себе, постоянное
недовольство сделанным: «Скоро должны прийти из
редакции за стихами, а стихи страшно плохие - в
них нет ни этой ночи, ни этих людей, ни себя».
Или в другом случае: «...искренне подумал, что
эти документы так и остались более сильными, чем
мои стихи, написанные по ним…»
Между тем и его вроде бы беглые, неприхотливые
записи, и некоторые тогдашние стихи таят в себе
зерна мыслей, тем, образов, впоследствии
определивших характер и своеобразие поэзии
Твардовского военных и послевоенных лет.
Выше было сказано о горестном предвидении поэтом
вероятного будущего многих слушателей
немудреного концерта. Позже ему привелось не раз
столкнуться с этой жестокой реальностью:
«Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем
особенно это грустно и больно, когда лежит боец
в одиночку под своей шинелькой, лежит под
каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему
письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже
ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие
герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит,
но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я
убеждался, что в такой суровой войне
необыкновенно легко забывается отдельный
человек. Убит, и всё».
<…> Неотступной мыслью о павших проникнуты и
многие другие тогдашние записи поэта:
«...Говорил, между прочим, с одним танкистом
лейтенантом...Я спрашивал его о том, о сем.
Женат ли? Женат. А дети? Да нет, какие ж дети.
Мы еще недавно совсем, перед войной только.
Сколько вам лет? Двадцать два. Я подивился его
молодости...
- А вот он еще моложе был, - показал, лейтенант
ногой на фанерную дощечку, торчащую из снега у
самой стежки. «Геройски пал.., 1921 г.
рождения». Я не заметил раньше этой дощечки.
Сколько их, между прочим, этих дощечек с
карандашными надписями, по пути от реки Сестры
до Выборга. Сколько братских могил».
В публиковавшихся тогда во фронтовой печати
очерках поэта ничего такого не было, да и быть
не могло. Даже вроде бы совсем «невинные»
черточки событий решительно отсеивались
редакционно-цензурным «ситом». Очерк о
нескольких прославленных танкистах, которые
выглядели отнюдь не богатырски – «мал мала
меньше», по выражению автора, - был
первоначально озаглавлен «Экипаж малышей», но в
газете был переименован в «Экипаж героев» и
подвергся таким изменениям, что Твардовский
«ахнул и для себя отказался от него».
Зато живая запись рассказа командира танка, Д.
Диденко, как и весь экипаж, Героя Советского
Союза, сохранила всю жестокость боев, вплоть до
мучительнейших подробностей. Надо было вытащить
с поля боя другой, сгоревший танк. «Полез я
туда, - сказал Диденко, - дотронулся рукой до
механика – он и рассыпался. Зола».
Подобная горькая правда, резко контрастировавшая
с вышеупомянутыми мерецковскими мемуарами, даже
тридцать лет спустя «шокировала» вышестоящие
инстанции.
«Кому это нужно?» - называлась статья
подполковника запаса Н. Афанасьева, напечатанная
в журнале «Коммунист Вооруженных Сил» вскоре
после публикации записок Твардовского.
<…> Но «всё минется - правда останется», как
написал однажды в ту пору поэт другому попавшему
в опалу автору – Василю Быкову.
Точность и значительность записей Твардовского о
финской кампании ныне подтверждена появившимися
из-под спуда лет и цензурных запретов мемуарами
её непосредственных участников, которые порой
прямо перекликаются со сказанным автором «С
Карельского перешейка». Так, уже упомянутый мною
А.Н. Деревенец вспоминает об одном из погибших
товарищей: «Из головы у меня не выходит вмерзший
в лед раненый мальчишка».
И как памятник этим «нашим стриженым ребятам»
выглядит стихотворение Твардовского «Две
строчки» /1943/:
Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далёко шапка отлетела.
Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал…
Среди большой войны жестокой,
С чего - ума не приложу, -
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
Па той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.
 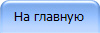
|
|