|
- И вдруг чувствую: мой «У-2»
отрывается от земли, летит... Мой, понимаете?
Мой! Я – за штурвалом! Я поднял его в небо!
Самостоятельно, без инструктора! Впервые!.. А
вокруг – чудо: земля – в снегу, в чисто-чистом
небе – ослепительное солнце, морозец – градусов
под двадцать... Такое впечатление, будто лечу
над сказочными россыпями каких-то неведомых мне,
но бесконечно прекрасных самоцветов, и они, в
знак приветствия, в честь моего, еще по сути –
мальчишеского, триумфа, неистово исходят бликами
всех цветов радуги, щедро дарят меня с земли
неземной красоты салютом... Я задохнулся от
восторга. И – запел. Во все горло пел. До
посадки.
- А что пели, Иван Иванович?
- Вот уж не помню... Оно, сказать, мудрено было
бы запомнить: нынче двадцатого мая мне
восемьдесят пять стукнет, а тогда – почти
четырех месяцев до восемнадцати недоставало.
- Это когда же было?
- В первых числах февраля 1941 года. В степи под
Воронежем. А я тогда был учеником Шестой
Воронежской авиационной спец-школы...
Вечер воспоминаний
Через двадцать два года после окончания войны
полковник авиации Иван Иванович Гончаренко,
занимавший к тому времени должность заместителя
командира дислоцированной в Приморье
тяжелобомбардировочной дивизии стратегических
самолетов, был выдвинут на повышение... А перед
тем, как вверить ему мощное авиационное
соединение, его направили на полугодичные курсы
усовершенствования начальствующего состава при
Академии Генерального Штаба. Как повелось, Иван
Иванович окончил их с отличием, получил
прекрасные характеристики и в самом радостном
настроении собирался к отлету на ставший ему
родным Дальний Восток. И вдруг – еще одна
радость. И – какая! В многомиллионной Москве нос
к носу только что не столкнулся со своим
фронтовым товарищем. Конечно же, мигом узнали
друг друга, отодвинули в сторону все дела,
начали вспоминать былое...
Вдруг Гончаренко поймал себя на мысли, что
взгляд его невольно задерживается на орденских
планках, щедро украсивших китель друга. Нет,
наградами не был обойден и сам Иван Иванович.
Например, незадолго до направления на учебу на
эти курсы при Академии ему вручили второй по
счету орден Красной Звезды. Так Родина отличила
бывшего командира дальнеразведывательного
авиационного полка, обеспечившего командование
систематической исчерпывающей информацией о
действиях авианосной группы ВМС США в Тихом
океане. Но среди орденских планок друга была
планка ордена Отечественной войны II степени.
Этот орден вручали только на фронте, в мирное
время им не награждали... Они с этим другом
воевали плечо в плечо, и он, тогда – лейтенант
Гончаренко, ни в чем другу не уступал...
Конечно, не за ордена воевали, но все же...
Видимо, друг заметил этот устремленный на
орденские планки взгляд:
- Что тебя так заинтересовало, Ваня? У тебя
иконостас – не меньше моего.
И он кивнул на столь же густо усеянный
орденскими планками китель Гончаренко.
Иван Иванович не стал лукавить:
- Да вот гляжу: у тебя и орден Отечественной
войны есть...
Друг быстро пробежался взглядом по орденским
планкам Ивана Ивановича, лицо его при этом
вытянулось:
- Постой! Нас же вместе наградили: и тебя, и
меня. Одним приказом маршала Конева.
- Ты что-то путаешь. Медалью «За боевые заслуги»
меня наградили.
- Это – само собой. А потом еще – и орденом.
Приказ был от февраля сорок пятого, а вручали –
в апреле... Ах, да! Тебя же в марте от нас
откомандировали... Не получил, что ли?.. Ваня,
да тебя же орден дожидается! Уже двадцать два
года дожидается! Запиши-ка номер приказа...
Номер приказа Гончаренко записал. Но в наградной
отдел Министерства Обороны не поехал: одно – на
самолет пора, а другое – неловко как-то... Ну
что? Прийти и спросить: где мой орден? Как за
подаянием?
...Назавтра он докладывал комдиву о прибытии с
учебы. Как всегда, докладывал строго и
лапидарно. Но, видимо, промелькнула все же в его
голосе какая-то непривычная для комдива нотка,
которая тут же была замечена:
- Случилось что, Иван Иванович?
И тогда он рассказал комдиву о встрече с другом.
- Да Боже ж мой! Давай сюда номер этого приказа
– сегодня же запрос сделаю!..
А несколько месяцев спустя, в присутствии всех
офицеров дивизии, старому солдату вручали
заждавшуюся своего законного владельца высокую
боевую награду.
...Иван Иванович смолоду отличался трезвостью:
выпить мог, что называется, «раз в год по
обещанию». И то – лишь одну-единственную
чарочку. Вот и сейчас, когда товарищи по службе
«обмывали» орден замкомдива, сам замкомдив за
столом лишь пригубил... Вернувшись домой, сел в
кресло, задумался... Не спалось... В памяти
встали далекие дни зимы с сорок четвертого на
сорок пятый год...
...Да, в боевой полк он сумел попасть лишь в
ноябре сорок четвертого. Но лишь люди, далекие
от истории Великой Отечественной, могут
расценить это так, что-де на фронт он поспел к
«шапочному разбору»
Цифры – вещь упрямая. И вот эта упрямая вещь
однозначно говорит нам, что самыми тяжелыми,
самыми кровопролитными для советской авиации
были не первые (1941-й и 1942-й), а последние (с
1943-го) годы войны. А особо тяжкими стали
последние четыре военных месяца, пришедшиеся на
победный сорок пятый год. Судите сами. В 1941
году мы потеряли 17900 боевых самолетов (в
среднем – по 2983 машины в месяц, по 93 – в
день). В 1942 году недосчитались 12100 воздушных
кораблей (по 1008 в месяц, по 33 – в день). Зато
в 1943 году с заданий не вернулись 22500, а в
1944 году – 24800 экипажей (соответственно: в
среднем – по 1875 и по 2066 в месяц, по 62 и по
68 – в день). А на финише войны, с января по май
1945 года, мы пожертвовали 11 тысячами «Яков»,
«Илов», «Лавочкиных», «Пешек»; то есть – каждый
месяц уносил жизни 2850 команд пилотов,
штурманов, бортстрелков, а каждый день навечно
вычеркивал из списков советских ВВС 85 единых
небесных судеб. Иными словами, к маю 1945 года
по общему показателю потерь в авиации мы
приблизились к уровню 1941 года. Но ведь в
потери боевой техники в 1941 году вошли и
самолеты, уничтоженные гитлеровцами на наших
приграничных аэродромах на рассвете 22 июня – а
это, по оценкам специалистов, около 1800 единиц.
Эти самолеты попали под внезапный удар врага в
то время, когда в их кабинах не было экипажей.
Значит, уцелевшие летчики, штурманы, бортстрелки
могли воевать на других машинах по мере их
поступления на фронт. И – воевали! А в 1945-м
самолеты гибли большей частью вместе с
экипажами. Поэтому, если говорить о жертвах
среди летного состава, то он составил в 1941
году 16100 экипажей (в среднем: по 2683 в месяц
и по 83 в день). А если еще из жертв первого
года войны вычесть и наши потери в ее первые 18
дней, которые мы понесли в условиях страшной
неразберихи, сопутствовавшей боям в Прибалтике,
в Белоруссии и на Западной Украине (помните, у
Твардовского: «... все нынче, как спросонку»?),
то получится, что, начиная с 10 июля 1941 года
(то есть, во время напряженнейших боев под
Смоленском, под Киевом, под Ленинградом, под
Одессой, под Севастополем, под Москвой, под
Тихвином, под Ростовом-на-Дону) советская
авиация теряла в среднем в месяц – 2319, а в
день – 79 экипажей: значительно меньше, чем
четыре года спустя под Краковом, под Варшавой,
под Гданьском, под Веной, под Прагой, под
Дрезденом и под Берлином.
Парадокс? Нет, закономерность: армия наступающая
всегда несет потери большие, чем армия
обороняющаяся. Тем более, если судьба
обороняющейся стороны поставлена на кон.
А зимой с сорок четвертого на сорок пятый судьба
гитлеровского рейха была как раз на кону.
Нацистская верхушка лихорадочно искала выход из
создавшегося положения. И прежде всего тогдашние
берлинские заправилы стремились решить три
задачи: сохранить каналы надежного сообщения с
последним из оставшихся у Германии сателлитов –
хортистской Венгрией, продолжавшей снабжать
вермахт позарез необходимым для продолжения
войны сырьем; не дать соединиться частям Красной
Армии с наступавшими встречь им с запада
американскими войсками, а еще лучше – и
перессорить Москву с Вашингтоном и Лондоном; и
сохранить в своих руках районы южной Германии,
примыкающие к Альпам (так называемую «Альпийскую
крепость»), где они надеялись отсидеться «до
лучших времен» в случае развития событий по
самому неблагоприятному для них сценарию.
Поэтому даже в те дни, когда войска нацеленного
непосредственно на Берлин Первого Белорусского
фронта сокрушительным ударом прорвали оборону
гитлеровцев на Висле и устремились к Одеру,
расположенному лишь в нескольких десятках
километров от немецкой столицы, командование
вермахта направляло все свои резервы не сюда, а
– под Будапешт, бои за овладение которым вели
войска Второго и Третьего Украинских фронтов, и
в Силезию, по направлению к которой одновременно
продвигались: с запада – американский авангард
генерала Патона, а с востока – советский Первый
Украинский фронт во главе с маршалом Коневым.
Сандомирско-Силезская фронтовая наступательная
операция Первого Украинского фронта наряду с
Варшавско-Познанской наступательной операцией,
проводившейся Первым Белорусским фронтом,
осуществлялась в рамках единой Висло-Одерской
стратегической наступательной операции. Слов
нет, бои под Варшавой и Познанью были
наитягчайшими. Но, как тогда оценить накал боев
в полосе наступления войск маршала Конева, если
среднесуточные жертвы, приносимые этим фронтом
на Алтарь Победы, в полтора раза превосходили
потери наступавших справа от «украинцев»
«белорусов»!
Среднесуточные потери войск Первого Украинского
фронта в Висло-Одерской операции (5034 человека)
были едва ли самыми тяжкими для этого войскового
объединения за всю войну: при освобождении
Харькова этот фронт терял в сутки в среднем по
1914 человек, при освобождении Киева – по 2779
человек, при броске от Днепра к Карпатам – по
3897 человек и даже при штурме Берлина – по 4949
человек. Меньших жертв потребовали и от войск
других фронтов стратегические наступательные
операции, вошедшие в историю войны в числе самых
кровопролитных. Так, при окружении под
Сталинградом группировки Паулюса, вынесший на
своих плечах основную ношу реализации плана
«Уран» Юго-Западный фронт терял в сутки в
среднем по 4946 человек; в ходе операции
«Багратион» (по освобождению Белоруссии)
оказавшийся на самом укрепленном гитлеровцами
направлении Третий Белорусский фронт ежедневно
недосчитывался по 2945 человек; на завершающем
этапе войны, в одной из наиболее сложных
наступательных операций, Восточно-Померанской
Второй Белорусский фронт каждый день
расплачивался за ликвидацию нависшей с севера
над рвавшимися к Берлину войсками Первого
Белорусского фронта вражеской группировки 3211
жизнями...
Естественно, чрезвычайно высоких жертв
потребовала Висло-Одерская операция и от
летчиков. Ежедневно не возвращались с задания на
родные аэродромы в среднем по 15 экипажей (для
сравнения: под Сталинградом среднесуточный
уровень потерь нашей авиации составлял 9
самолетов, при освобождении Киева – 11
самолетов, в ходе операции «Багратион» - 12
самолетов). А только что закончившаяся
Львовско-Сандомирская наступательная операция,
принесшая авиации Первого Украинского фронта
всенародную славу (И.И. Гончаренко служил в
141-м гвардейском Сандомирском штурмовом
авиационном полку) уносила в сутки в среднем
жизни шести летных экипажей. Значит, здесь между
Вислой и Одером, накал боев усилился несказанно,
и грядущая Победа, как никогда прежде,
потребовала «не постоять за ценой»...
Почему-то в массовом сознании подвиг летчиков
Великой Отечественной ассоциируется прежде всего
с истребителями: оба советских сокола,
удостоенные трех Звезд Героя Советского Союза –
А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб – были
истребителями. Истребителями были и многие из
дважды Героев – те же Лавриненков и Колдунов,
именами которых по праву гордятся смоляне.
Однако все же не их самолеты были главным
объектом внимания вражеских пилотов и
зенитчиков.
Давайте представим себе такую ситуацию:
восьмерку бомбардировщиков, которой поручено
разбомбить железнодорожный узел, где грузится в
эшелоны следующий на фронт вражеский полк,
прикрывает эскадрилья (12 самолетов)
истребителей. По ком надлежит наносить основной
удар врагу? Вернее: что для врага важней –
уничтожить 12 советских истребителей, или 8
советских бомбардировщиков? Человек,
неискушенный в вопросах логики войны, может,
ничтоже сумнящеся, сказать: важнее уничтожить 12
самолетов, чем 8. Почему? А потому, что тогда
будет уничтожено в полтора раза самолетов
больше. А человек, который при всей своей
неискушенности в вопросах логики войны, еще и
претендует на глубокомыслие, может при этом
добавить: мол, уничтожение 12 истребителей
потребует от врага меньших жертв, чем
уничтожение 8 бомбардировщиков (к «бомберам» еще
сквозь строй прикрывающих их истребителей
прорваться надо, и – как пить дать! - при этом
без жертв не обойдешься). И все же: и первое, и
второе мнения – ошибочны. Потому, что даже если
враг уничтожит все 12 наших истребителей, то 8
бомбардировщиков сумеют выполнить задание – враг
останется в дураках: истребленный еще на
подступах к фронту неприятельский полк –
несоизмеримо более значимая потеря, чем 12
самолетов (и даже чем 20 самолетов: если потом
фашистские стервятники отправят на землю все 8
оставшихся без прикрытия истребителей
бомбардировщиков). И напротив: если врагу не
удастся сбить ни один из наших самолетов, но
удастся сорвать выполнение советскими
бомбардировщиками поставленной перед ними задачи
(допустим, принудив бомбардировщики освободиться
от бомбогруза над чистым полем и, облегчившись,
броситься наутек) – победа за врагом.
Тогда неразбомбленный вражеский полк назавтра
окажется на передовой, а послезавтра – натворит
там немало дел...
Нашей армии довелось воевать не с дураками.
Гитлеровцы хорошо владели «арифметикой войны» и
философией ее тактики. Пилоты «Люфтваффе» и
немецкие зенитчики были нацелены на уничтожение
в первую очередь тех самолетов, которые несут
угрозу наземным войскам и коммуникациям. Но
сбивать советские бомбардировщики им становилось
день ото дня труднее: пилотам – потому что наших
«бомберов» все надежнее прикрывали истребители,
зенитчикам – потому что (хвала конструкторам!)
потолок полета советских бомбардировщиков
неуклонно повышался...
Тогда враг обратил особое внимание на советские
штурмовики.
И – не зря! Ведь прицельность бомбардировки с
большой высоты – не велика (у бомбардировщиков
всего мира отличным считается попадание в цель
диаметром 200 метров). Ковровые бомбардировки
становятся эффективными лишь при участии в них
большого числа бомбардировщиков. Иное дело –
штурмовик! Он наносит точечные удары. И – какие
удары! Для сравнения: основной наш
«горизонтальный» бомбардировщик времен Великой
Отечественной, Ту-2, мог нести на борту от одной
до трех тонн бомб. Но сбрасывал он их, как уже
говорилось, с большой высоты, а потому –
рассеяно. А штурмовик Ил-2 точечно доставлял 600
килограммов бомбогруза. Кроме того, под крыльями
он нес 8 снарядов РС. Да-да, тех самых, которыми
стреляли легендарные «Катюши»! Кстати, «Катюшам»
для того, чтобы вдрызг разгромить Оршанский
железнодорожный узел (крупный, между прочим,
узел) 14 июля 1941 года, хватило 112 ракет.
Железнодорожный узел (со всем содержимым – от
помещений и рельсов, до последнего оказавшегося
там человека) был буквально стерт с лица земли,
и в течение семи (!) суток гитлеровцы не могли
даже приступить там к ремонтно-восстановительным
работам. Так вот, чтобы достичь подобного
эффекта, нужны были всего-навсего 14 «Илов» (в
штурмовом авиаполку их было по штату тридцать
шесть). Неужто гитлеровцы махали бы рукой на эти
летающие «Катюши» и в первую очередь охотились
бы за сопровождающими их истребителями? Конечно,
нет. Поэтому, лишь завидев в небе силуэт «Ила»,
вражеские зенитчики тут же норовили поймать его
в прицел. А зенитки у врага были серьезными,
восьмидесятивосьмимиллиметровыми. И достать «Ил»
они могли задолго до того, как он начнет
пикировать. И – доставали...
Тогда наши штурмовики сменили тактику. Коль
скоро все равно их объекты – на земле, зачем
летать высоко? Ведь если взять обычный школьный
транспортир, отмерить на нем определенное число
градусов, выстроить соответствующий угол, а
потом – соединить стороны этого угла с помощью
циркуля частями двух окружностей: одной –
большей, а другой – меньшей по радиусу, - хорды
образовавшихся сегментов окажутся разными: в
сегменте большего радиуса – длиннее, в сегменте
меньшего радиуса – короче. То есть, если самолет
идет на большой высоте – ему потребуется больше
времени на преодоление простреливаемого зениткой
пространства, и шанс быть сбитым ею у него
возрастает, а если тот же самолет летит в 15-30
метрах от земли («идет на бреющем») - он
проскочит зону обстрела в мгновение ока, и сбить
его из зенитки можно разве что чудом. Однако
любая палка – о двух концах. Когда штурмовик
идет впритирку с землей – не стреляет по нему
только ленивый. Ну, ладно, огонь из «шмайссера»
«Илу» не страшен, и из винтовки – тоже (еще раз
– хвала конструкторам, создавшим бронированный
штурмовик!). Но вот если у немцев окажется под
рукой «эрликон» - то: беда! А если –
фаустпатрон? Он ведь броню толщиной в 200
миллиметров пробивает, какой даже на тяжелых
танках, а не то, чтобы на самолете-штурмовике,
отродясь не было!.. Но самый страшный враг для
«идущего на бреющем» «Ила» - вражеские танки.
Ведь у Т-IV («Тигр») и Т-V («Пантера») - такие
же восьмидесятивосьмимиллиметровые пушки, как и
у зенитчиков. У других танков калибр пушек,
правда, поменьше, но все-равно серьезный: даже у
самых древних гитлеровских «панцеров», у Т-III –
семидесятипятимиллиметровая пушка. А «Ил» - то:
не в нескольких километрах, а рядышком. Вдарит
такая пушка в упор – и только ошметки от «Ила»
летят...
Продолжение следует.
 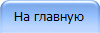
|
|