|
Эта улица не изменила своего названия: как была
Загорная, так и осталась. За горой, за гористой
местностью, за крутыми склонами. Она как будто
специально спряталась от городского шума и
суеты. С южной стороны тишину и спокойствие её
охраняют надёжные, каменные стены и башни
крепости, во главе с таинственной Веселухой. С
северной – рукой подать до Днепра. А с западной
украшает громада собора. Отсюда он то прячется
за кронами деревьев, то появляется силуэтом на
фоне неба.
На этой улице жила наша семья. Двор дома
соседствовал с 1-й вспомогательной школой
(существующей поныне). Невдалеке, по улице 1-го
Мая (так тогда называлась улица Соболева)
находится 1-я средняя школа, а рядом Духовская
церковь и библиотека, разрушенные в 1941 году.
Через дорогу дом купца Мочульского. В настоящее
время этот 3-этажный дом превращён в чулочную
фабрику.
Если от нашего дома идти вверх через Зелёный,
затем Красный Ручей, то выйдешь к бывшему
«Охотничьему магазину» (ныне «Ларец») на улице
Б. Советская, невдалеке от Троицкого монастыря.
А если по Загорному переулку, а затем в пролом в
крепостной стене к улице Тимирязева (бывшая
Козловка), то выйдешь прямо к часам.
Хоть и недалёк был этот путь, у нас на Рачевке
говорили: «Пошли в Центр».
На нашей улице жил артист драмтеатра Е. М.
Кузнецов. В его фруктовом саду я впервые увидел
художника П. А. Шматникова, который маслом писал
цветущие яблони.
В Загорном переулке жил также художник А.
Ломжик, который стал жертвой репрессий в 1937
году.
В конце улицы жил Вася Зуев, впоследствии
ставший членом Союза Художников.
Я был влюблён в свою округу, в которой прошло
моё незабываемое детство, где я всегда был занят
играми, забавами, любил наблюдать, как рисуют
художники. Красив и живописен был Днепр с его
песчаными пляжами, людными набережными. Не спеша
шлёпал белый с красными колёсами и начищенной
судовой медью пароход «Октябрёнок». Загрузившись
на причале у Нового моста, он делал остановку и
подбирал пассажиров в районе Нижненикольской
церкви. И торжественно продолжал свой путь,
образуя волны, в которые сразу же бросались
купальщики. Бороздили воду прогулочные лодки и
моторки. Рыбу ловили с лодок, с берега, стоя по
колено в воде.
По Днепру гоняли плоты. С любопытством наблюдали
мы, как плотовщики длинными баграми виртуозно
управляли ими.
На Рачевке, против Крестовоздвиженской церкви,
работал перевоз. Перевозчик в больших рукавицах
перебирал позвякивающий между двумя
металлическими валиками трос. Протяжный гудок.
«Октябрёнок» заставлял перевозчика опускать в
воду трос для прохождения парохода. Здесь же
существовала и лодочная переправа.
Выше по Днепру стояли плоты, с которых ловили
рыбу. На нехитрую снасть брался лещ. По плотам
бегали, конечно, босыми ногами – не так скользко
было на мокрых сосновых брёвнах, от которых под
лучами жаркого солнца разносился какой-то особый
хвойный запах.
Купаться на Днепре можно было повсеместно, но
особенно мы любили Нижнюю и Верхнюю Быстрянку.
Купались до посинения, до появления «гусиной
кожи». В то время зимой Днепр замерзал. Мы
расчищали лёд и делали каток.
Величественно извивалась крепостная стена с
башнями по крутым склонам и холмам. По
протоптанной, еле заметной тропинке поднимались
к башне «Веселуха». Она очаровывает своей
загадочностью. Чудилось, что там внутри что-то
неизвестное и страшное. Бывало, карабкаюсь по
ветхим стенам, сводчатым перекрытиям, проникаю в
узкие проходы, где мрак и прохлада, поднимаюсь
по каменным лестницам с высокими ступенями,
забираюсь на зубцы, обследую амбразуры, ниши,
каждый камень. Это доставляло безграничное
удовольствие не только мне, но и всей ребятне
нашей улицы, – нам везде чудились клады.
Особенно, когда узнали о существовании подземных
ходов. Всё это завораживало.
Но не всегда это было безопасно. При проходе с
одной стороны стены на другую путь преграждали
башни без перекрытия. И надо было проходить по
выступам вдоль стены. И не всем удавался такой
переход. Участок стены от башни «Орёл» к башне
«Авраамиевской» пришёл в такую ветхость, был так
узок, что его приходилось преодолевать ползком.
Часто под ногами обрывались кирпичи.
С кручи, в основном у башни Веселухи, запускали
воздушных змеев и бесшумных планеров. Всё это
изготавливалось собственными руками из нехитрых
материалов. Газеты, дранки, мочало годились для
изготовления змея, рейка, тоненькие планочки из
бамбука (расщепляли старые бамбуковые лыжные
палки), папиросная бумага – для планера.
За «Алтарной» башней в небольшом рву был устроен
тир. При стрельбе из малокалиберной винтовки
бумажные мишени прикреплялись к деревянному
щиту, обнесённому земляной насыпью. После
окончания стрельб мишени с результатами
попадания снимали, а мы, ребята, перочинными
ножичками выковыривали свинцовые пульки, которые
в дальнейшем расплавлялись и использовались для
грузил рыболовной снасти.
С радостью встречали зиму. Было сказочно красиво
на холмах у башен. Это был новый мир, когда
слепящая белизна делала ещё суровее каменную
громаду крепостной стены.
Изобретательности не было предела. Катались с
горы на гору, выполняли головокружительные
спуски, преодолевали крутые подъёмы, прыгали с
трамплина, ездили наперерез друг другу.
Собирались обычно значительными кампаниями
ребят. Весёлье, оживление царили, собирались
толпы любопытных.
Летом Загорная жила особой жизнью. Прямо на
улице играли в лапту. Начинали обычно дети, а
если игра затягивалась, то и возвращающиеся с
работы взрослые подключались к игре. Игра была
довольно сложная, ибо по мячу били не лопаткой,
а круглой битой. Попробуй, не промахнись. Играли
в городки, бабки, чижика. Были у нас и кегли.
Исчезли сейчас эти игры и забавы. В футбол
играли тоже на улице.
По улицам ходили стекольщики, точильщики,
пильщики дров со своими инструментами. Сборщик
утиль-сырья радовал ребят недорогими сладостями.
Не единожды приходилось видеть и похоронные
процессии. С нашей улицы хоронили в основном на
Окопном кладбище. Специальных машин не было.
Процессия двигалась за лошадью, либо за машиной
с открытыми бортами, чаще несли покойного на
полотенцах через плечо.
В центре города на улицах не так уж и много
транспорта. Переходить улицу можно спокойно в
любом месте. Нет специальных переходов,
светофоров. Водители транспорта пользуются
сигналами. Легковой транспорт имел чёрный цвет,
грузовой – тёмно-зелёный. Медленно взбирается в
гору трамвай по улице Б. Советская. У «Часов»
сворачивает направо, продолжая путь по улице
Ленина, мимо сада им. Серафимовича (ныне
Блонье), затем сворачивает налево, мимо
сельскохозяйственного института, башни Громовой
к улице Дзержинского.
Несмотря на то, что трамвай проходил по улице
Ленина, это было любимое место для прогулок
смолян. Особенно в воскресные дни медленно
двигались не только по тротуару, а и по проезжей
части толпы гуляющих. Беспрерывно позванивая,
пробирался по центру улицы трамвай.
В городе было много цветов. Лучшая клумба была в
садике «Семнадцатого партсъезда» (на месте, где
сейчас новый корпус облсовпрофа). Это была
клумба-календарь. Ежедневно из цветов
выкладывался день недели, ежемесячно – название
месяца. Днём она очаровывала рисунком и
красочностью, вечером изумительным запахом
табачка и других вечерних цветов.
В конце садика было уютное кафе и, почти рядом,
здание театра. Пришлось мне слушать в нём оперу
Пуччини «Чио-чио-сан» в исполнении
гастролирующих артистов.
На месте театра в настоящее время 9-этажное
здание общежития сельскохозяйственной академии.
В районе нынешней телебашни располагалось здание
летнего цирка. Помню выступления Ю. Дурова со
знаменитой «Железной дорогой», Виталия Лазаренко
с сыном Виталием. Сатира отца и мастерство сына,
выполнявшего прыжок через несколько запряжённых
экипажей, оставляли неизгладимое впечатление,
как и выступление эквилибристов сестёр Кох.
Заканчивалось представление в цирке французской
борьбой, где любимыми были Поуль Банак, Клеменс
Буль, Раковский, или выступлением укротителя
львов Буслаева.
Воспоминания Виталия Бухтеева подготовил к
печати Леонид Степченков.
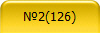 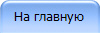
|
|