|
Не знаю, как другим, а мне неизъяснимо странным
казалось с некоторых пор не только практически
одновременное явление на Смоленщине таких
гигантов в русской литературе, как Исаковский и
Твардовский, сопутствующих им ярких дарований
Македонова, Марьенкова, Муравьева, нескольких
добротных мастеров, работавших вполне
профессионально, плодотворно и оставшихся в
истории (думаю, не только краевой) одним или
несколькими произведениями. Повторяю, едва ли не
более необъяснимым представлялся мне последующий
«обрыв», «провал»… Назовите как хотите это
ощущение «провинциальности» литературы
смоленской и, особенно, поэзии, где были такие
имена. Нет, мастера появлялись и после, есть
сейчас, их имена и приходят вам на память. Но
чего-то из ряда вон, со своим – прожигающим и
достающим душу всерьез и надолго – мне,
возможно, просто не попадалось.
И вдруг – вот эти строки, от которых ком
подкатил к горлу и глаза защипало. Самое
странное, что я их уже читал раньше и не
заметил, а вот наткнулся недавно для каких-то
журналистских надобностей – и перечитал все
немногое, что было под рукой этого автора, и
захотел еще. Не знаю, может, минута такая
подошла…
Странное дело - деревья желтеют.
Странное дело - осень уже.
Странное дело я в жизни затеял –
Жить, как идти от межи да к меже.
Где ж тогда первую, где серединную
Перешагнул я и дальше пошел?
Путь был - я помню -
и трудный и длинный.
Что же я счастья в пути не нашел?
Было ведь что-нибудь, было ведь, было!?
Память забыла, но я не забыл:
Самая лучшая в мире любила.
Самую лучшую я разлюбил.
Были, пожалуй, не хуже другие.
Память забыла, а мне не забыть:
Рвались не связи, но жилы тугие,
Как паутинная легкая нить.
Все мне казалось: нужнее, нежнее
Кто-то и где-то меня еще ждет.
Все мне казалось: межа - а за нею
Самое важное произойдет.
Так и остался - ни с той и ни с теми,
Может, на самой трудной меже...
Странное дело - деревья желтеют.
Странное дело - осень уже.
Странное дело… Страшное своей непоправимостью,
необратимостью.
Я знал автора этих строк. Не то чтобы близко: он
заходил несколько раз к нам в редакцию, были
общие знакомые. И, вроде бы, понимал умом, что
он – личность, Поэт… Хотя – всем нам
представляется, что «настоящие» поэты где-то за
тысячу верст, а то и вовсе в прошлом веке. А он
был к тому же страшно необустроенный, насквозь
неблагополучный, у него почти ничего не было
издано, бог весть, как и на что он жил, но чтобы
одалживался, жаловался – упаси бог. Пару раз мы
с ним выпивали – от души и с разговорами по
душам. Тогда показалось мне: чересчур высоко
залетает, без меры. А стоило, ох как стоило
задержаться и, если не позавидовать, то… Не знаю
что – но не снисходить до жалости, как было
принято у нас: «свихнулся на боге», «ударился в
мистику» и проч. Наверное, хуже нет, когда
человек человеку – бревно.
И вот нынче три года исполняется как Владимир
Ионов… Нет, сказать «умер» - ничего не сказать,
а «сгорел» - как-то жутковато и некрасиво. Но он
именно сгорел с последним своим пристанищем и
незатейливым имуществом, а главное – гадать нам
теперь и гадать, что там из написанного им ушло
безвозвратно. Твардовский в дневнике
(11.03.67)записал с горечью: «О Солженицыне
можно будет сказать прямо, сопоставив его судьбу
с судьбами Платонова, Зощенко, Пастернака,
Ахматовой (до последних закатных дней,
освещенных уже отпущением ей грехов). При жизни
травим, долбаем, загоняем в гроб, а после смерти
подбираем листочки и строчки».
В этот далеко не полный ряд нужно добавить и
Владимира Ионова. Вот уж у кого судьба – куда
там Солженицыну! А что касается листочков, то,
казалось, и подбирать нечего. Вот он –
изуродованный «умными» редакторами единственный
сборник - «Материнский хлеб». Да еще несколько
разрозненных публикаций было где-то – ищи
теперь.
(А тот же «Материнский хлеб» - стихотворение,
давшее название сборнику, - какая мощная вещь!
Здесь не просто судьба целого поколения, но и
сиротство показал ли хоть кто-то с такой
беспощадной пронзительностью, что не может не
дрогнуть сердце: боже, за что им такое?
«Смоленск» уже публиковал это стихотворение к
первой годовщине смерти поэта – повторять не
буду. «Странное дело» тоже было опубликовано в
подборке, переданной нам Натальей Егоровой
вместе с замечательной статьей о поэте и друге.
Но все же повторил его здесь, памятуя
собственный опыт, – как не далось оно мне с
первого раза).
Вот она, последняя межа – так же, как осень,
врасплох застала зима, холод вечности. И больно
вдруг сжалось сердце от этого: «Что же я счастья
в пути не нашел?». Вспомнилась классика: «Нет,
жизнь меня не обделила». Но здесь... «Обделила»
- мало сказать. Кажется, нарочно нельзя
придумать, чтобы настолько полно и
последовательно лишить человека всех кажущихся
нам обязательными атрибутов детства, юности,
молодости, зрелости, старости…
«Двадцать с лишним лет я ждал этого часа. И
ровно двадцать лет, находясь по ту сторону
забора, замерзая от холода и голода в карцерах
тюрем и лагерей, выстаивая тягостные минуты
зачитывания мне очередного приговора, трясясь в
тройниках столыпинских вагонов, перетасовывающих
меня из зоны в зону огромной колоды ГУЛАГа,
уходя на рывок под прицельным огнем автоматов и
даже прощаясь с жизнью, когда смерть, казалось,
была наилучшим исходом из страны рабских
мучений, я все-таки думал об этом кратком
мгновении»…
О каком? Когда он придет к директору детдома и
спросит, за что мучили его
пацаненка-дошкольника, и без того наказанного
выше всякой меры голодом, холодом, потерей
близких да и просто знакомых – войной одним
словом. Спас и обогрел смоленского мальчонку
оккупант. «Мой Солдат» справил сироте настоящий
офицерский мундир с обер-лейтенантскими
погонами. Так тот и щеголял. А потом его «свои»
определили как раз в те места (в детдом), где
протекала недолгая и блестящая карьера
пяти-шестилетнего мальчика Вовы… Со всеми
вытекающими последствиями.
Обо всем этом, об этой жизни, выламывающейся из
штампов усредненного нашего быта, – в
обнаружившейся неизданной повести В.Ионова
«Солдат вермахта, или Красная полоса». Даже при
всем обилии в литературе и на ТВ всякого рода
«чернухи», особенно гулаговского, «камерного»
пошиба, повесть эта неожиданна и необычна,
непохожа, нова и сейчас, хотя, немало лет ждет
публикации. Она глубоко философична, а вовсе не
рассчитана на внешний эффект, на экзотику
тюремную или военную. И, естественно, не
бесспорна. Многое трудно принять, хотя
чувствуешь, что автор старается нигде не
выходить за рамки того, что он знает «лучше всех
на свете». Мы привыкли к стертым фразам типа «к
хорошему грязь не прилипает». Прилипает. И
никому не собирается прощать автор, что отняли у
него лучшие годы жизни и усиленно в эту грязь
втаптывали, ломали, не давали головы поднять.
Тут немудрено озвереть. А вот Владимир Ионов
пришел не просто к вере, а к точному знанию,
получив бесспорные свидетельства существования
Бога. И насколько это не было данью моде,
насколько это серьезно и глубоко, пожалуй,
нельзя понять, не познакомившись с повестью.
Но, наверное, мы не имели бы права называть
Владимира Ионова истинным поэтом, если бы эта
«главная составляющая» не отразилась в его
стихах и никому не известных поэмах. Собственно,
лучшие его стихи и потрясают тем, что они «обо
всех». То же самое «Странное дело» - уверен,
свое, «личное» для каждого. Некую высшую
сущность, присутствующую в нас, постиг поэт.
Другой разговор, какой ценой далось постижение,
каков был «крестный путь»!
В отличие от большинства новейших поэтов имя
Божье В.Ионов не треплет всуе, не режут глаз в
его стихах золотым блеском бессчетные купола и
кресты. Но попалось мне одно произведение,
представляющее исключение. Естественно, издать
его в советские времена не представлялось
возможным, а впоследствии, очевидно, автор
должной активности не проявил, хотя тема вошла в
моду (думаю, поэтому и не проявил). Почему-то
хочется с этой смелой по замыслу поэмы и начать
знакомство с никому не известным Владимиром
Ионовым (приводим лишь одну главу, пролог и
эпилог).
ПРОЗРЕНИЕ
Пролог
В начале было Слово.
И Слово было свет.
Так утверждался новый
Божественный завет.
И свет, как сущность Бога,
Разъял немую тьму,
Предначертав дорогу
Заблудшему уму.
И воссияло Слово.
И претворило в плоть
Духовную основу,
Как повелел Господь.
И смертные покровы
Бессмертьем увенчав,
Дарует миру Слово
Начало всех начал.
Дочь врага народа
Я - дочь врага народа.
Вы знаете о том,
Что я в четыре года
Попала в спецдетдом,
Куда гуртом свозили,
Отняв от матерей,
Со всех концов России
Таких, как я, детей?
А в это время маму
Пытали без конца
Неимущие сраму
Соратники отца
В том самом заведеньи,
Где он других пытал,
Покуда, раб идеи,
Врагом ее не стал.
За что его забрали,
Среди каких имен –
Забытые детали
Кровавых тех времен.
Зато известно точно:
Попавший в жернова
Той линии поточной,
Что до сих пор жива,
Еще недавно важный
Энкавэдэшный чин,
И командир отважный,
И добрый семьянин.
Как штык, прямой, упрямый,
Когда других судил,
На очной ставке с мамой
«Признал и подтвердил».
А мама устояла.
Смешав и явь и бред,
Полгода повторяла
На всех допросах «нет».
И все-таки и все же
До Охты от Ухты
Прошла по бездорожью
Дорогой и святых,
И тех, кто шел когда-то
На Бога и царя,
Назвав себя солдатом
За дело октября.
Ступив на ту дорогу
Без веры, без креста,
Познала мама Бога
В явлении Христа
И обрела свободу
В аду, где «Капитал»
Распятому народу
Свободу смерти дал.
Но совершилось чудо –
Отбыв за сроком срок,
Вернулась мать оттуда,
Откуда нет дорог,
И в ссыльной крутоверти,
В глухом Степном краю
Нашла, спасла от смерти
Меня и дочь мою.
А вскоре /я не буду
Про козлищ и овец/
Вернувшийся оттуда
Нашел нас и отец,
Еще не очень старый
И крепкий человек,
Чтобы семейной парой
Дожить бы с мамой век.
О Боже, как же сладко
Об этом самом дне
Мечтала я укладкой
На том кошмарном дне,
Куда нас опустила
Великая страна,
И бережно растила
Для лагерного дна.
Нас выблядками звали
/Мы знали, где отцы/.
С нас платьица срывали
Всех полов подлецы
И выставляли голых
Товаром напоказ
Перед шеренгой школы -
Шеренгой в сотни глаз.
Простить, забыть такое?
Или, как вся печать,
Кремлевского изгоя
За это обличать?
Нам растлевали души,
Чтобы растлить тела,
Идейные кликуши,
Которым нет числа,
Которые умели,
Не залетая в высь,
При всяком хлебном деле
Кормиться и пастись.
Сейчас они за сценой
Вздыхают о стране,
А были черной пеной
На сталинской волне.
Детишки этой швали
Сидят во всех верхах.
А гении в опале,
В психушках и в бегах.
И далеко-далече
Звучит их горький стих...
Но расскажу о встрече
Родителей моих.
Отец, еще не старый
И крепкий человек,
Явился, как подарок,
Как на голову снег.
Он все за нас продумал
И все за нас решил:
Мы в Кумах и за кумом,
А он в столице жил.
И был совсем свободным.
Со всеми был на ять.
Он мог кого угодно
Вселить и прописать
В московскую квартиру.
- Жива, жива Москва!
Былому командиру
Вернула все права, -
И с этими словами,
Смешав и явь и бред,
Под нос и мне и маме
Он торкал партбилет,
Твердил: Восстановили!
Пришел и наш черед!
Мы верим нашей силе
И знаем, чья возьмет.
Со сталинским бедламом
Покончила страна...-
И простонала мама:
- Изыди, сатана!
Для веры, для свободы
Ты нужен так же, как
Гаранин и Ягода,
Как Сталин и ГУЛАГ:
И власть и мир кроите
За хлебные места...
Снимите же, снимите
Распятого Христа!
Эпилог
Приписан к мирозданью,
Я от земли устал.
Но тяготят сознанье
Греховные уста:
В пророки я не годен,
В юроды не хочу.
Грешнейшая из родин
Пришлась мне по плечу.
Зовут ее Расея,
Зовут Россия-мать.
А в ней на фарисеев
Заведено плевать.
Плевать на всю их силу,
На горе-имена.
Расея... мать-Россия –
Болезная страна.
А черный гриб в зените
Позорнее креста.
Снимите же, снимите
Распятого Христа!
Жаль, конечно, что возможно дать лишь отрывок,
нарушив единство и глубину замысла, оставив в
стороне историю распятия Христа «фарисеями» и
экскурс в историю Руси. Эта поэма – даже и
вовсе, пожалуй, не «церковная». Главный герой
здесь, в битве «тьмы» и «света» – «Расея». И
поражает глубина веры и любви к ней того, кто,
казалось бы, ничего хорошего от Родины не видел,
но вот… «пришлась по плечу».
На неглубокий взгляд, несколько неожиданно
появляется образ «грешнейшей из родин» в
эпилоге. Но с первого слова о Слове до «черного
гриба» поэма необыкновенно цельна и едина
необычной силы идеей и верой. Не хочется
разжевывать, но вот «враг народа» и его жена в
последней главе воспринимаются как символы сил
противоборствующих с сотворения мира. И эта
чудом выжившая в аду и сберегшая душу, обретшая
новую жизнь и гордое достоинство женщина
неизбежно сливается в нашем восприятии именно с
Россией-матерью.
«Прозрение» - многослойная и многоплановая вещь,
удивительно насыщенная. Отдельно можно
проследить значение Слова в этом мире, его
первородную, сущностную значимость. Здесь -
«роль поэта и поэзии»: каждое фальшивое слово,
какие бы ни были «уважительные причины», -
убивает неизбежно «творца» (чувствуете, какое
эхо загуляло, если с распятия Христа фарисеями
«ради общего блага» начато и ложным
погубительным признанием «врага народа»
завершено?). Есть тема крови и убийства – «по
охоте» и «ради идеи», опять-таки оригинально
решенная…
Повторяюсь, но воистину недюжинной силы и
концентрации вещь, над которой можно думать и
думать – и находить. Поражает, например, что эта
поэма – не банальная антисоветчина, хотя не
приходится сомневаться, что поэт «враг режима»,
и иначе быть не может. Дело не сводится им к
Сталину или «Советам» - нет! О многом говорит в
этом плане образ царя Петра в оставшейся за
рамками этой публикации главе.
Впрочем, анализу одной этой маленькой поэмы
(немногим более трехсот строк), думаю, будет
посвящено немало статей. Хотя для начала нужно,
чтоб она и в целом не такое уж большое по объему
уцелевшее творческое наследие Владимира Ионова
увидели свет. А разговор об этом наследии и
обзор находок, собственно, и не начинался еще.
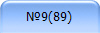 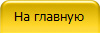
|

|