|
Итак, обещанное и необходимое возвращение к
«Этюду о Твардовском» Юрия Кублановского (ж-л
«Любимая Россия», №2(3) 2006 г.). Открывал
журнал с мыслью: «Наконец-то, еще одна брешь в
заговоре молчания в центральной прессе – вот не
обусловленный какой-то датой довольно объемный
материал о великом поэте». И с первых слов
рванулся поддержать автора: да, «современному
читателю, околдованному половодьем русского
модернизма конца XIX-XX века, поэтическое
наследие Александра Твардовского сегодня» - как
глоток родниковой воды, как островок
спасительной земной тверди в зыбучей трясине.
Но я рано так разогнался. У автора «Этюда» –
иное завершение фразы: «… сегодня, пожалуй, не
очень-то интересно». И дальше, пресекая
возможность перевести стрелки на оболваненного и
даже вовсе выкорчеванного торжествующей ныне
поп-культурой «современного читателя»,
поясняется: «Пока существовала советская
литературная субординация, Твардовский считался
классиком. Рухнула субординация - стали забывать
поэта Твардовского. Ностальгирующие
шестидесятники помнят его «Новый мир»;
замечательно яркий и пронзительный образ
Твардовского - у Солженицына в «Бодался теленок
с дубом». Но положа руку на сердце: кто сейчас
не расстается с лирикой Твардовского, кто
подробно читает его поэмы? После всех новаций,
метафор и метаморфоз новейшей поэзии -
простоватая, прямая, местами нравоучительная
поэзия Твардовского кажется архаичной. Сам
Твардовский скупо знал и туго понимал самых
интересных наших поэтов этого века, вряд ли,
кажется, задумывался над тайной - с двойным и
тройным дном - лирической речи, о возможностях
преображения словесного материала, лобово решая
в поэзии смысловые задачи.
Он выше всего ценил поэзию, которая черпает
непосредственно из бытия, а не из культуры. Но -
в отличие, скажем, от Рубцова - был слишком «по
жизни» связан с советской властью, чтобы родник
его творчества был первозданным, незамутненным.
В сущности, тут драма поэта, слишком тесно
сошедшегося с идеологией, ладно внешне, но и
внутренне недостаточно дистанцировавшегося от
нее. Поэзия – дело тонкое, и такие вещи
безнаказанно не проходят.
Притом, что Твардовский ценил в поэзии более
всего жизненность, он мало пекся о собственно
эстетическом, недопонимая, что словесности
необходим элемент культурного аристократизма».
Вот такое вступление. Не припомню случая, когда
не мог найти в тексте, написанном неглупым,
казалось бы, человеком, не то что мысли, но и
словосочетания, которым не задевалось бы во мне
чувство элементарной справедливости.
Во-первых, эта «субординация». Да, было некое
явление, которое мы хлестко именуем
«секретарской литературой». Но и вошло-то это
выражение в обиход с легкой (ох и многим она
казалась, наоборот, чересчур тяжелой!) руки
А.Т., который как раз не «разносил блюда по
чинам» и не шушукался за спиной. Достаточно хотя
бы бегло просмотреть опубликованную (воистину
захватывающее чтение!) его переписку с
известными нашими писателями. Упорно отказывался
он от «хлебной должности» в СП… У него не было
никакой нужды в признании «по должности», ибо
творчество его было буквально растворено в
повседневной жизни. И не только фронтовики
изъяснялись посредством «Василия Теркина».
Писание «продолжений» и вариантов этой эпопеи
(очень убедителен в определении жанра профессор
П.С.Выходцев) самодеятельными авторами приобрело
просто повальный характер. Сам Твардовский
отмечает в дневнике как любопытный факт, что
подобное было за всю историю русской литературы
только в отношении «Евгения Онегина» и «Кому на
Руси жить хорошо».
Твардовский как раз нарушил всякую субординацию
и очередность, буквально ворвавшись в классики
со своей «Страной Муравией» в 1936 году. Не
случайно так живуча легенда, что на экзамене по
советской литературе в ИФЛИ у профессора
Н.К.Гудзия студент-орденоносец Александр
Твардовский попросил другой билет, потому что
ему досталась «Страна Муравия».
Я уже ссылался на первых Твардовских чтениях на
воспоминания Константина Симонова, которые
представляют особую ценность как свидетельство
(я бы сказал, требующее перешагнуть через
собственное самолюбие) поэта-современника,
стоявшего по той самой «субординации» едва ли не
выше А.Т. (Симонов – лауреат семи, из десяти
возможных, Сталинских премий). «Неожиданная»
поэма безвестного провинциала до того потрясла
его, перевернула взгляды и поэтические
пристрастия, что Симонов отказался от публикации
собственной законченной повести в стихах,
признав, что «этого он не умеет»: «Я был
поражен, потому что столкнулся с небывалым в
поэзии тех лет свободным повествованием, которое
при этом всегда и всюду оставалось стихами.
<…>Он не обращался к стихам, чтобы рассказать
ими о жизни, он обращался к жизни стихами и
делал это так, словно только так и можно было
сделать. Словно никак ловчее и точнее, чем
стихами, и невозможно изложить все»…
Очевидно, что ни с какой стороны
Ю.М.Кублановский не обременен памятью и опытом
«ностальгирующих шестидесятников». Иначе он
почувствовал бы всю несостоятельность увязывания
всенародного признания Твардовского с некоей
«субординацией», а также особо тесной связью с
властью и идеологией (это – как Пушкина
обвинять, что «был слишком «по жизни» связан» с
Николаем I; и обвиняли, да еще как!). Отношение
к Твардовскому как к «живому классику» - вполне
в русле основных традиций русской литературы.
Редактор «молодежки», в которой я работал (тому
уж поболе двадцати лет), не раз вспоминал
случай, когда перед ними, слушателями ВПШ,
выступал пребывавший в зените своей славы
Евгений Евтушенко. Вопросов было множество, в
том числе и наш редактор отправил записку с
вопросом об отношении поэта к «смоленской школе»
в советской поэзии. Неожиданно для него
Евтушенко эту записку огласил и ответил
обстоятельно (основной смысл передаю, как
слышал, в виде прямой речи):
«О школе такой ничего не знаю. Знаю Исаковского,
Твардовского, Рыленкова – остальные фамилии
незнакомы (редактор перечислил в записке всех
современных смоленских «корифеев» - П.П.).
Первые три поэта широко известны. Но они –
разные. С тем же основанием мы можем говорить,
например, о «рязанской» школе и т.д.
О Твардовском хочется сказать отдельно. Для нас,
молодых, это был бог. А напечататься в «Новом
мире» - верх мечтаний. Это признание настоящее.
Александр Трифонович был очень суров к авторам.
Не стыжусь сказать сегодня, я не раз плакал,
выходя из его кабинета (что уж молодой Евтушенко
– А.Т. упрекают, что он «доводил до слез» самого
Заболоцкого – П.П.). Я так и работал: писал – и
оглядывался на Твардовского, боялся его. Но вот
умер Твардовский, и бояться стало некого. Теперь
я никого не боюсь»...
Не знаю, может, Юрий Михайлович и это
высказывание рассмотрел бы под углом той самой
«субординации», но мне вспоминается постоянно
одно общеизвестное свидетельство о Чехове.
«Чувство собственного достоинства, независимости
было у него очень велико.
- Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь
это он написал, что Анна сама чувствовала,
видела, как у нее блестят глаза в темноте!
- Серьезно, я его боюсь, - говорит он, смеясь и
как бы радуясь этой боязни. <…>
- Вот умрет Толстой, все к черту пойдет! -
говорил он не раз.
- Литература?
- И литература».
Мне кажется, так и сбылось: и в случае с
Толстым, и в случае с Твардовским. Один к
одному.
Вот в перечне «былых заслуг», составленном
Кублановским, «замечательно яркий и
пронзительный образ Твардовского – у Солженицына
в «Бодался теленок с дубом». Прочитавши «Этюд»
до конца, убеждаешься, что именно «Теленок» и
довлеет над всем этим произведением. А больше…
ничего. Не читаны, похоже, даже опубликованные в
последние годы дочерьми рабочие тетради –
«черновик главной книги», не привлекли внимания
рассказы, очерки, письма. Да и стихи, поэмы,
«положа руку на сердце», читались ли «подробно»?
Или так и пребывают «неразрезанными» (по
диссидентскому обыкновению) в некоем монолитном
сером стане советской литературы?
Конечно, авторитет Александра Исаевича,
«замечательно ярко» написавшего, как он
«бодался», а Твардовский (не говоря уж об
«окружении») недостаточно дистанцировался от
господствовавшей идеологии, может представляться
безусловно достаточным лауреату солженицынской
(а недавно – и Пушкинской) премии. Но меня
именно «Теленок» впервые(!) всерьез заставил
задуматься: это благодаря какой же особой связи
(«по жизни» и внутренне!) с идеологией и властью
А.Т. вытаскивал, вынашивал, не побоюсь этого
слова, и пробивал «Ивана Денисовича» и другие
(лучшие из всего творчества Солженицына!)
рассказы и повести? Из-за какой идеологии раз за
разом вызывал на себя огонь, ставя на кон
огромный свой авторитет, личное и семейное
благополучие и, самое главное, журнал, значение
которого для всей литературы русской понимал,
может быть, не хуже нас – потомков? И сносил с
необычным и удивительным для всех терпением все
многочисленные «подарки» автора-конспиратора,
представшие даже в самооправдательном изложении
Солженицына как весьма сомнительные примеры
бескомпромиссной борьбы с режимом, – Александр
Исаевич явно (для меня) переступал черту
порядочности, забывая об элементарном долге,
если не дружбы, то хотя бы признательности.
Может ли цель (сколь угодно высокая) оправдать
такие средства? Мне кажется сегодня, что сама
история, наша кромешная жизнь поставила под
сомнение изначальную чистоту и благородство этой
цели. Но это предмет особого разговора.
Здесь же хочется напомнить, что «Теленок» имеет
своеобразное продолжение - «Угодило зернышко
промеж двух жерновов. Очерки изгнания», где
Солженицын возвращается к «замечательно яркому и
пронзительному образу Твардовского» и кое в чем
его подправляет. Вот цитата прямо к нашей теме:
«Когда я был ожесточен борьбой с советским
режимом и различал только заборы цензуры,
Твардовский уже тогда видел, что не к одной
цензуре сводится будущая разлагающая опасность
для нашей литературы. Твардовский обладал
спокойным иммунитетом к авангардизму, к
фальшивой новизне, духовной порче. Теперь, когда
претенциозная эмигрантская литература
поскользила в самолюбование, в капризы, в
распущенность, тем более можно оценить такт
Твардовского в ведении «НМ», его вкус, чувство
ответственности и чувство меры. <…> И я так был
распален борьбой с режимом, что терял
национальный взгляд и не мог тогда понять,
насколько и как далеко Твардовский – и русский,
и крестьянский, и враг модернистских фокусов,
которые тогда еще и сами береглись так
выскакивать. Он ощущал правильный дух вперед, к
тому, что ныне забренчало так громко. Он был
насторожен ранее меня. Я теперь, после многих
годов одиночества – вне родины и вне эмиграции –
я увидел Твардовского еще по-новому: он был
богатырь – из тех немногих, кто перенес русское
национальное сознание через коммунистическую
пустыню. А я не полностью опознал его и
собственную будущую задачу».
Тем более удивительно сегодня наблюдать все ту
же «распаленность борьбой с режимом», давно не
существующим, у почитателей и последователей
Александра Исаевича. Каких таких «незамутненных
родников» жаждет Кублановский? Неужели
достоинство литературы – «дистанцироваться» от
власти, от идеологии, от всего, что давит и рвет
нашу жизнь, – то есть от жизни самой
дистанцироваться? И как же это выглядит на
практике?
Признаться, на меня не производили особого
впечатления подборки стихов Юрия Михайловича, на
которые довольно часто натыкался в журналах. На
сей раз не счел за труд – отправился в областную
библиотеку им. А.Т.Твардовского и сумел там
разыскать лишь один из поэтических сборников
Кублановского («Дольше календаря». Москва,
«Русский путь», 2001). Предлагаю вашему вниманию
первое – заявочное – стихотворение:
ФРАГМЕНТ
Раз снег такой долгий и падкий
на лампочку в нашем окне,
наутро саперной лопаткой
придется откапывать мне
смиренный жигуль у отеля,
и - тронемся в путь налегке,
ну разве с остатками хмеля
в моем и твоем котелке.
Похожи холмы, перелески
немеряных наших широт
на ставшие тусклыми фрески.
И вновь перекрыть кислород
способны стежки оторочки
проглаженной блузы твоей,
с подвесками мочки
и шелк поветшавшей сорочки,
в которой едва ли теплей...
Ну, что можно сказать… Это, действительно, одно
из лучших и, если угодно, фирменных
стихотворений в небольшой книжечке поэта, где
словам, надо заметить, не тесно. Может быть, как
некоторое новаторство отметят читатели, что не
каждая строка начинается с прописной буквы, как
они привыкли видеть в стихах. Да и то – не такая
уж редкость. А, в целом, никак не могу
избавиться от ощущения даже не вторичности, а «третичности»
и некоей необязательности этих строк. В свое
время был у фигуристов-одиночников вид
состязаний, который по телевизору не показывали.
Обязательная программа, или «школа». Спортсмены
«вычерчивают» на льду положенные фигуры, а судьи
ходят за ними с рулеткой – замеряют, оценивают
мастерство. Так вот, общее впечатление от
сборника, что со «школой» у Кублановского все в
порядке. Возможно, «знатоки и сладкоежки формы»
(выражение А.Т.) получат истинное удовольствие
от «разбора фигур» и поставят высший балл
(собственно, так и сбылось; свидетельство –
литературные премии), но… У фигуристов этот вид
программы, в конце концов, отменили как не
представляющий интереса для зрителей.
Вообще, не без грусти припомнились фразы все из
того же «Этюда»: «…никто, очевидно, не станет
уже создавать обстоятельных проблемных поэм, не
скупясь на описания, строфы, главы, никто не
сможет разрабатывать стихотворно человеческие
характеры... Мастер в одной строфе может
изложить ныне то, на что прежде требовалось бы
десять. Поэзия стала емче, но одновременно и
герметичней, и ограниченней».
Конечно, я понимаю, что автор в данном случае
говорит обобщенно, мыслит глобально. Но вместе с
тем трудно забыть замечание Юрия Михайловича,
что Твардовский «не всегда умел уловить нужный
(кому? – П.П.) объем стихотворения». Как пример
такого неумения приводится «Я убит подо Ржевом»,
«где 42(!) строфы-кирпичика, и читать его к
середине, если не раньше, надоедает».
Вообще, умиляет эта манера автора говорить за
всех. То у него получается, что не найдешь
сейчас таких, кто «не расстается с лирикой
Твардовского, кто подробно читает его поэмы», то
вот «надоедает» раньше середины. Но представьте
такой казус: я «не расстаюсь» и «читаю»… чем
дальше, тем подробнее. Вот уже два года из
номера в номер публикую в журнале «Смоленск»
свои маленькие открытия и размышления,
сопровождающие это чтение (и это еще что – «твардовский
стаж» известных починковских журналистов
П.Стародворцева и В.Савченкова исчисляется
десятилетиями). И удивляюсь, как раньше могло
«надоедать», как я мог не видеть, не понимать. И
даже представить не могу теперь, что из жизни
моей уйдет Твардовский, что может наступить
момент, когда я скажу: вот, мол, прочитал все.
Чем дальше, тем больше вижу, что это невозможно,
что никто и никогда не сможет прочитать «всего
Твардовского», а взявшись «читать подробно», не
сможет бросить.
Такого у меня не бывало. Даже сомнения
появились: может, со мной что-то не так. Но вот
вышла в прошлом году книга «А. Твардовский, М. Гефтер.
ХХ век. Голограммы поэта и историка», и я с
облегчением (но и не без разочарования,
признаюсь) прочел у историка М.Я.Гефтера, как в
годы войны «пришел» к нему Твардовский. Пришел и
остался. И он задался тем же вопросом: почему? И
ответил, как и я мог бы, да и успел отчасти:
«Какая-то собственная душевная смута вызывала ко
мне душу Твардовского, заставляла размышлять о
нем и позволяла увидеть его всякий раз с новой
стороны. Увидеть-принять в себя его судьбу, его
житейскую и поэтическую историю. И со временем
становилась все более очевидной его связь с
Пушкиным: взаимо-переклички судеб и роли в
странном и неутешительном служении России.
…С юности открытый мною Пушкин сблизил с
Твардовским и помог мне распознать, объемнее
ощутить приобретенное в Твардовском и с ним…».
Не ожидал, что в принципе возможно вот такое
параллельное проговаривание, буквально «в одно
слово».
Наверное, учитывая вышесказанное, естественно,
что все больше встречаю людей, для которых
Твардовский – это жизнь, главный ее смысл. Не
буду говорить «за всю Одессу», но здесь, на
родине поэта, я ощущаю сегодня некую волну
нового, «неказенного» интереса к Твардовскому, к
Твардовскому – совершенно незнакомому,
освобожденному от цензурных рамок и липкой
лицемерной официальной хвалы, которая, как
известно, хуже хулы. У меня перед глазами стоят
лица людей, пришедших в прошлом году на встречу
с Валентиной Твардовской, пришедших в филармонию
и в областную библиотеку на первые Твардовские
чтения…
О, я понимаю ваш пессимизм, Юрий Михайлович (и
сочувствую Вам!), но не разделяю его, то есть не
думаю, что так уж навсегда покончено с лучшими
традициями русской поэзии. Что касается
«нынешних мастеров», то не взялся бы сегодня за
какие-то серьезные обобщения. Информационное
пространство в России до сих пор не вышло из
состояния разрухи, во всяком случае, самым
неестественным образом искажено (как следствие –
небывалый кризис литературной критики). Наблюдая
то, что происходит на Смоленщине (думаю, наш
регион здесь не исключение), не могу не
заметить, что так называемый литературный
процесс в значительной и едва ли не более
интересной своей части давно протекает вне сферы
деятельности обеих наших писательских
организаций, озабоченных больше проблемами
собственного существования и сосуществования.
Вполне возможно (во всяком случае, остается
надежда), что мы не знаем сегодня как раз
наиболее самобытных и серьезных поэтов.
А пока… Мне, например, кажется, что строфы
«фрагментов» Юрия Кублановского отнюдь не
вмещают, а тем более не могут заменить то, на
что «прежде требовалось бы десять». Хотя,
допускаю, что «нужный объем» он улавливает лучше
Твардовского. И это не только «личный выпад» -
хотелось бы, чтобы Юрий Михайлович указал мне
(да, думаю, и другим будет любопытно)
упомянутого им «мастера». Ведь до невозможности
раздражает уцелевших «современных читателей»
(мне по роду деятельности приходится бывать на
читательских конференциях) пустозвонство,
самодовольство и невежество этих самых мастеров
«новейшей поэзии», которых не то что «туго», а
вообще невозможно понять (это не относится к
Ю.Кублановскому: его понять можно).
Совершенно нелепо выглядит утверждение: «Многое,
чему мы научились в поэзии, Твардовскому из-за
его творческой психологии было неинтересно (а
может, и не под силу) осваивать». Это притом,
что тут же автор жалуется: «Ужимка, ухмылка,
гаерство теперь сделались повсеместны;
волшебство стихотворной речи превращается в
«текст», в какие-то куплеты, а не достойные
строфы. <…> Но теперь, кажется, потеряна сама
возможность простого человеческого повода для
написания стихотворения – без ернической задумки
или ангажированного пафоса»,- и т.п. То есть вот
это следовало осваивать?..
В целом, «Этюд» представляет собой некую
неудобоваримую смесь: то автор развенчивает и
хоронит Твардовского, то вдруг восторгается
безукоризненностью и совершенством отдельных
стихов, то говорит о «досадной советской
примеси», то находит «чудесные и вовсе уж не
советские строки». Вообще обрушивается на все
советское, в том числе на поэзию, и вдруг с той
же неподражаемой логикой заключает: «Увы, та же
беда и ныне: большинство пишет очень неряшливо.
А тот, кто думает о «нетленке», пишет
претенциозно: словно нудит нас перечитывать его
ради разгадывания темнот, а не по велению
сердца. Но чаще всего такого рода «шифровки»
оставляют с носом: расшифрованное не стоит
выеденного яйца».
А почему не сто’ ит? Да сумбур в голове, и
некогда или просто лень обдумать противоречивые
факты, увязать, проверить себя: вали кулем –
потом разберем. Толковый анализ иных
стихотворений соседствует в «Этюде» со штампами
и верхоглядством, порой граничащими с
невежеством или клеветой. Чего стоит одна только
фраза, что Твардовский «скупо знал и туго
понимал самых интересных наших поэтов этого
века, вряд ли, кажется, задумывался над тайной –
с двойным и тройным дном – лирической речи, о
возможностях преображения словесного материала,
лобово решая в поэзии смысловые задачи»?! Если
уж даже сверхтребовательный ко всему окружающему
его миру Солженицын особо оценил «такт
Твардовского в ведении «НМ», его вкус, чувство
ответственности и чувство меры», то несложно
представить, что за этим стоит. Именно отличное
знание и понимание позволили А.Т. (раньше даже
Александра Исаевича!) «ощутить правильный дух
вперед, к тому, что ныне забренчало так громко»
и что сегодня испугало самого поклонника
лирической речи «с двойным и тройным дном».
Право, не знаю, каких «самых интересных» наших
поэтов имеет в виду Кублановский. Но даже дар
никому тогда не известного и совершенно чуждого
ему по мировоззрению молодого Иосифа Бродского
Твардовский оценил с первого взгляда и принял
участие в его судьбе. В те дни
«окололитературного трутня» дружно травили в
печати, состоялся знаменитый теперь судебный
процесс. И вот 23 марта 1964 года Александр
Трифонович записывает в дневнике: «— Дело
Бродского (записка на вечере «Н.М.» в Выборгском
доме культуры, пук стихов, теперь еще письма
Македонова и каких-то двух геологов и «отчет»
Вигдоровой — все это «в свете» настоятельных
советов Владимира Семеновича <Лебедева,
помощника Хрущева> «не вникать в грязное дело»
(вник-таки – и пошел на конфликт с
А.А.Прокофьевым, тогдашним секретарем
Ленинградского СП и одним из главных гонителей
молодого поэта. – П.П.).
2. Налицо очевиднейший факт беззакония: 5 лет за
то, что работал с перерывами, мало зарабатывал,
хотя никаких нетрудовых источников существования
— отец и мать пенсионеры. Парнишка, вообще
говоря, противноватый, но безусловно одаренный,
м.б., больше, чем Евтушенко с Вознесенским
вместе взятые.
Почему это меня как-то по-особому задевает (ну,
конечно, права личности и пр.)? М.б., потому,
что в молодости я длительный срок был таким
«тунеядцем», т. е. нигде не работал, мало, очень
мало и случайно зарабатывал, и мучился тем, что
«я не член союза» (профсоюза), и завидовал
сверстникам (Осину, Плешкову, Фиксину) — членам
союза и получавшим зарплату»...
Некая высшая справедливость, идея служения людям
и литературе были для А.Т. на первом месте, и в
публичных оценках он не давал воли своим
симпатиям и антипатиям. «Запретный» серебряный
век Александр Трифонович знал, как иным
«мастерам» дай бог знать. Меня поразил,
например, его отзыв на проект издания
«Стихотворений» Мандельштама. Там столько
конкретных замечаний («бросилось в глаза»), что
в пору для серьезной статьи. Он ссылается и даже
оценивает американские издания, насчитывает «не
менее полсотни» стихов поэта, неизвестно почему
оставшихся за бортом проекта (причем, иные
называет со ссылками на дореволюционные
журнальные публикации); недоумевает по поводу «невключения
детских вещей».
Подобную эрудицию проявляет он и в дневниках,
где «самые интересные» - постоянные герои его
размышлений как раз над «тайной лирической
речи». И мне трудно назвать еще кого-то из
великих, кто так далеко продвинулся бы в
разгадке этой тайны. Пожалуй, нужно назвать
Бунина (и как хороша статья А.Т. о нем!): «Перо
Бунина — ближайший к нам по времени пример
подвижнической взыскательности художников,
благородной сжатости русского литературного
письма, ясности и высокой простоты, чуждой
мелкотравчатым ухищрениям формы ради самой
формы».
Вот этим «мелкотравчатым ухищрениям» сегодня нет
числа. Честно скажу, я ожидал, что Ю.М.
Кублановский в «Этюде» вспомнит именно о Бунине,
о его оценке «Теркина». И дождался: «Кстати,
очевидно, именно поэтическая «простота»
Твардовского - после всех изысков новейшей
поэзии - привлекла к «Теркину» Ивана Бунина. Он,
видимо, увидел тут здоровье, от которого давно
отвык в стихах своих издерганных современников и
по которому так скучал не только в эмиграции, но
еще в России».
«Кстати», к чему здесь все эти «видимо» и
«очевидно», если Иван Алексеевич вовсе не
зашифровывал свое письмо (1947 г.) к старому
другу? Цитирую дословно: «Я только что прочитал
книгу А. Твардовского («Василий Теркин») и не
могу удержаться – прошу тебя, если ты знаком и
встречаешься с ним, передать ему при случае, что
я (читатель, как ты знаешь, придирчивый,
требовательный) совершенно восхищен его
талантом, - это поистине редкая книга: какая
свобода, какая чудесная удаль, какая меткость,
точность во всем и какой необыкновенный
народный, солдатский язык – ни сучка, ни
задоринки, ни единого фальшивого, готового, то
есть литературно-пошлого слова».
Вот уж, действительно, «благородная сжатость
русского литературного языка». И. кстати, ни
слова о «простоте», которая у Кублановского
неизменно выдвигается на первый план как некий
жупел. Хотя не зря говорится, что все гениальное
просто. И вершина мастерства – достичь этой
простоты, естественности, когда и следов не
видно, и непонятно, «как это сделано» (у
Кублановского читаем: «Последнее восьмистишие
этого поразительного стихотворения («Две
строчки» - П.П.) вообще непонятно как «сделано»,
ибо оно не сделано, а проговорено как откровение
/отсюда и его пронзительное косноязычие/». Для
наглядности приведем здесь это восьмистишие:
Среди большой войны жестокой,
С чего - ума не приложу, -
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.)
Казалось бы, попробуй понять, разберись. Нет, мы
гнем свое: «простому» Твардовскому не под силу
было осваивать все поэтические тонкости,
недопонимал он про «культурный аристократизм».
Но вот восторгается талантом А.Т. едва ли не
столп этого самого «аристократизма» - Иван
Алексеевич Бунин, и настолько озабочен, чтобы
его мнение не осталось втуне, что и в более
позднем письме интересуется, исполнена ли его
просьба. Ведь это только представить: ни один из
трех литературных богов Бунина (Пушкин, Толстой,
Чехов) не удостаивались от него стольких
восклицательных знаков в границах одного
предложения!
Так что не все так просто с «простотой»
Твардовского. Упоминавшийся М.Я. Гефтер набросал
своего рода тезисы для определения «квази-простоты
Твардовского»: «Его простота ОБМАНЧИВА.
Неожиданностью была Муравия. Неожиданен Теркин.
И «Дом у дороги» в сравнении со всем, что
говорилось – прозою и стихом, и также в
сравнении с «Теркиным». Неожиданен Теркин – на
том (этом) свете. Неожиданна лирика ухода –
ясная, изначальная… Псевдо-простота Твардовского
– противостояние псевдо-сложности…».
Задумайтесь. Не кажется ли вам, что в этом
гораздо больше правды, чем в рассуждениях
Ю.Кублановского об «архаичности» творчества
Твардовского. (Бунин приводит замечательные
слова Чехова: ново то, что талантливо; что
талантливо – то и ново).
Что же касается читателей, «околдованных
половодьем русского модернизма конца XIX-XX века
(так в оригинале – П.П.)», то концовка «этюда»
Кублановского, вроде бы, никакой околдованности
уже не предполагает. Наоборот, оказывается, что
«поэзия вещь хрупкая», и она вымывается
«новейшими культурными технологиями». «Неужели
настоящая поэзия в новом веке окажется
потерянной для России»? – вопрошает автор.
Смотря что считать «настоящей поэзией». Поэзия
«жизненности», которая «черпает непосредственно
из бытия, а не из культуры» (последнее слово
употреблено Ю. Кублановским необдуманно: любая
национальная культура есть продукт и отражение
бытия – правильно: «а не из литературы»), то
есть не вторичная; поэзия Пушкина, Тютчева,
Некрасова, Твардовского – можно сказать с
уверенностью, потерянной не будет. Что же
касается «половодья», то да, было дело:
околдовали, и одно время очень крепко. Но дурман
все больше рассеивается, здравый смысл, вкус к
живому слову, потребность в таком слове все
ощутимей заявляют о себе. Новая волна интереса к
творчеству Твардовского – первое и серьезное
тому подтверждение. Все противоречия и нелепости
«Этюда» - от изначально ущербной посылки: какое
благо, какое огромное достижение и новая вершина
русской литературы это самое «половодье
модернизма».
Тому уже немало лет, как мои студенческие
восторги сменились недоумением, а затем и ужасом
перед прорвавшим цензурную плотину «серебряным
веком». Как было красиво: декаданс, упадок…
Какой там упадок! Такого постыдного падения и
позора никогда не переживала русская литература,
удалившаяся в тяжелейший час (да и
спровоцировавшая его!) от своего народа в
пресловутую «слоновую башню» ради всемогущего
рока в виде порока, греха словоблудия и
всяческого иного блуда.
«Сумасшедший Корабль» (О.Форш), набитый жертвами
«праздного обжорства» (М.Гершензон) книжными
истинами, расправил паруса и в конце века
двадцатого. Вот когда довелось прочитать
«Окаянные дни» и «Воспоминания» Бунина и многое
другое многих других сынов Отечества,
оплакивавших и Россию, и русскую литературу в
пору предыдущего «междувечья» (замечательный
«термин» рославльского журналиста и поэта
А.Агеева), - и осознать происходящее как рецидив
той страшной болезни. Бунин в «Воспоминаниях»,
продолжая высказывания Л.Толстого и Чехова, о
болезни пишет даже без какого-либо переносного
смысла: «Силы (да и литературные способности) у
«декадентов» времени Чехова и у тех, что
увеличили их число и славились впоследствии,
называясь уже не декадентами и не символистами,
а футуристами, мистическими анархистами,
аргонавтами <…> - были и впрямь велики, но
таковы, какими обладают истерики, юроды,
помешанные: ибо кто же из них мог назваться
здоровым в обычном смысле этого слова? Все они
были хитры, отлично знали, что потребно для
привлечения к себе внимания, но ведь обладает
всеми этими качествами и большинство истериков,
юродов, помешанных». И дальше он перечисляет
практически всех «самых интересных наших
поэтов», не исключая (и даже, может быть, во
главе угла) Александра Блока.
Конечно, с Буниным можно не соглашаться, что,
кстати, и делает Твардовский: «В развитии
русского стиха после застойно-эпигонской поры
«конца века» заслуги символистов бесспорны. Они
расширили ритмические возможности стиха, много
сделали по части его музыкального оснащения,
обновления рифмы и т. п. Бунин не смог бы стать
тем, чем он стал в поэзии, если бы только
буквально следовал классическим образцам».
Тем не менее, вполне обоснованно предположение
Ю. Кублановского, что Бунина в Твардовском
привлекло «здоровье». Стоит ли добавлять, что
далеко не только Бунина оно привлекало,
привлекает и будет привлекать. Совершенно
излишни сомнительного свойства «ходатайства» за
Твардовского типа: «такие поэты нужны, дабы
опреснить(!) чрезмерную, приторную порой
барочность» или «не надо пренебрегать
поэтическим наследием Александра Твардовского,
всей крупнотой его драматической личности».
Великий русский поэт, право, не нуждается в
покровительстве, даже если это покровительство
таких новейших мастеров, как Юрий Кублановский.
Продолжение следует.
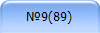 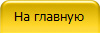
|
Размышления журналиста
о писательской доле
|