|
В первые годы «новой» России попала мне в руки
книга Олега Волкова «Погружение во тьму». В
аннотации прочитал, что Олег Васильевич –
старейший русский писатель, проведший в
советских тюрьмах, лагерях и ссылках 28 лет.
Представить такое невозможно. Читать обо всех
этих мытарствах и надругательствах над людьми
тяжело. И все это как-то по-особому, видимо,
задело меня почти полтора десятка лет назад,
Потому что я сделал выписки из авторского
предисловия:
«Я помню, что именно в этой одиночке
Архангельской тюрьмы, где меня продержали около
года, в один из бесконечных часов бдения при
неотступно сторожившей лампочке, стершей грани
между днем и ночью, мне особенно беспощадно и
обнаженно открылось, как велика и грозна
окружающая нас «пылающая бездна...». Как
неодолимы силы затопившего мир зла! И все
попытки отгородиться от него заслонами веры и
мифов о божественном начале жизни показались
жалкими, несостоятельными.
Мысль, подобная беспощадному лучу, пробежала по
картинам прожитых лет, наполненных
воспоминаниями о жестоких гонениях и расправах.
Нет, нет! Невозможен был бы такой их
невозбранный разгул, такое выставление на позор
и осмеяние нравственных основ жизни, руководи
миром верховная благая сила. Каленым железом
выжигаются из обихода понятия любви,
сострадания, милосердия — а небеса не
разверзлись...»
Страшна эта запись показалась мне тогда, страшна
и сейчас, когда сравнительно недавняя история
заставила отыскать ее. В начале нынешнего
учебного года уважаемый смоленский профессор,
которому нескольких лет не хватает до
восьмидесяти, рассказал мне об одном «неприятном
инциденте». История эта не идет из головы и
странным образом угнетает меня.
Был замечательный майский день, и профессор с
занятий возвращался домой пешком. От центра шел
он через дамбу по правой стороне улицы Нахимова,
где почти не бывает прохожих. Одолев половину
подъема, там, где сейчас забор, ограждающий
стройку, краем глаза заметил возле колонки двух
молодых людей и девушку. Особого внимания не
обратил на них: идти становилось трудновато. Но
нагрузка была на пользу и приносила
удовлетворение.
Вдруг на голову полилась вода. Профессор
инстинктивно шарахнулся в сторону и оглянулся.
От него в сторону забора, зажав в руке
пластмассовую бутылку, неспешной рысцой удалялся
один из замеченных молодых людей. У колонки
никого уже не было. «За забором спрятались.
Смотрят. А этот подкрался тихонько – и облил.
Бежать за ним? В его-то годы… Смешно. Кричать?
Глупо… Какое мерзкое положение»,- сменяли друг
друга отрывочные мысли.
Он утерся в буквальном и переносном смысле, и
ничего не видя от сознания своей беспомощности и
пережитого унижения двинулся дальше. Вдруг прямо
перед глазами возник второй парень, и не успел
старик испугаться или сказать хоть что-то, как в
лицо полетел песок, а бросивший его побежал
вслед за товарищем…
Профессор долго стоял, машинально проводя по
лицу влажным платком, и не знал, что делать и
куда ему теперь идти. И зачем?.. По-прежнему
светило солнце, свежей листвой зеленели деревья.
И все было мерзко…
С тех пор на работу и с работы ездит он на
трамвае.
На первый взгляд, поставил я рядом
несопоставимые вещи. Но шок, пережитый
профессором, во многом сродни «беспощадному
лучу» Олега Волкова: «… Я всем существом, кожей
ощущал полную безнаказанность насилия. И если до
этого внезапного озарения — или помрачения? —
обрубившего крылья надежде, я со страстью,
усиленной гонениями, прибегал к тайной утешной
молитве, упрямо держался за веру отцов и бывал
жертвенно настроен, то после него мне сделалось
невозможным даже заставить себя
перекреститься...».
Перечитываю эти строки писателя-мученика, и
стоит у меня перед глазами вот этот утирающий
лицо платком потерянный человек, за плечами у
которого полвека педстажа. Полвека «сеять
разумное, доброе, вечное» - и вдруг ощутить себя
больным, беспомощным, ненужным стариком,
которого можно безнаказанно оттолкнуть, которому
каждый от скуки может вылить на голову воду,
бросить песком, плюнуть в лицо. Каждый может.
Мы не отдаем себе отчета, но ежедневно дает нам
силы жить, делать свое дело, рожать детей лишь
одна, глубоко коренящаяся и неизвестно на чем
настоянная уверенность – каждый не может!
Загляните в себя – и вы почувствуете мощный
барьер, который не заступить: обидеть старика…
калеку… ребенка… женщину… Прислушайтесь
внимательней – и услышите голос многих табу,
существование которых не поддается логическому
обоснованию, но определяет каждого из нас как
Человека.
Потому и содрогается вся наша сущность, когда
рушатся на глазах эти «барьеры». Когда никакой
«шалостью» и «озорством» мы уже не можем
оправдать наших «мальчиков» и «девочек». Когда
не можем найти мотивы творимого ими зла, от
которого нет у нас защиты. И теряем веру. Как
мучительно это. Нет, не сразу, но с каких-то пор
я начал понимать мученическую муку Олега
Волкова:
«Над просторами России с ее церквами и
колокольнями, из века в век напоминавшими
сиянием крестов и голосами колоколов о высоких
духовных истинах, звавшими «воздеть очи горе» и
думать о душе, о добрых делах, будившими в самых
заскорузлых сердцах голос совести, свирепо
беспощадно разыгрывались ветры, разносившие
семена жестокости, отвращавшие от духовных
исканий и требовавшие отречения от христианской
морали, от отцов своих и традиций.
Проповедовались классовая ненависть и
непреклонность. Поощрялись донос и
предательство. Высмеивались «добренькие». Были
поставлены вне закона терпимость к чужим
мнениям, человеческое сочувствие и
мягкосердечие. Началось погружение в пучину
бездуховности, подтачивание и разрушение
нравственных устоев общества»…
Был период на рубеже 80-х – 90-х годов ХХ
столетия, когда казалось, что ужас «пучины»
ощутили все, и началась «дорога к храму» - для
всех. В моде были не только митинги, но и
всевозможные опросы населения «новой России». По
иным из них выходило, что семьдесят процентов
молодежи верят у нас только Церкви. Ура! Так
спасемся…
Никогда не забуду, как в пасхальную ночь вдруг
разом собрался и отправился к собору,
вдохновившись идеей написать об очищении юных
душ святым таинством Воскресения Христова.
Дальше первой площадки соборной лестницы
пробиться мне не удалось. Дело даже не в том,
что она плотно забита была именно молодежью.
Там… дрались. И дрались… девушки (тот же самый
«профессорский» возраст – 16-18 лет). Безобразно
матерясь, они совсем не женственно норовили
заехать друг дружке в лицо кулаком (у одной из
носа кровь капала на светлую куртку, и она
«между делом» как-то особенно жалко вытирала ее
рукой, размазывая еще больше) и пытались
пинаться ногами на восточный манер. Стена
любопытных подбадривала их, подавая похабные
реплики. Казалось, все «семьдесят процентов»
были пьяные и непотребные.
С подступившей к горлу тошнотой я развернулся и
побрел прочь, кляня себя за дурость, закаиваясь
навсегда и бормоча: «Вот эта церковь… Заманила и
стрижет купоны. Где святые отцы? Почему их нет
среди этого зверья, этой навербованной «паствы»?
Нас позвали – и мы идем к «храму». И что
находим?..».
Вот уже в третьем подряд номере «Смоленска»
настает у меня черед покойного смоленского поэта
Владимира Ионова. Перебирая его стихи, собранные
друзьями, наткнулся на куски какой-то рукописи.
Одно стихотворение – как раз сюда:
Совестью не балую,
Ближних не сужу...
В церковь захудалую
Робко захожу.
Нечто изначальное
Забирает в плен, —
Живопись наскальная
На массиве стен:
Сумрачно-истомное
В ликах-образах.
Время остановлено
Сотни лет назад.
Но, как будто вычеркнув
Эти сотни лет,
Вспыхнул электрический
Современный свет
И в костюме с галстуком
Самых модных проб
Вежливое «Здравствуйте»
Говорит мне поп.
А на мой естественный —
Старина! — вопрос
Исчисляет бедствия
Церкви, как завхоз:
Тут и отопление,
И водопровод,
И озолочение:
Оскудел приход.
От забот — ни роздыха,
Дела — невпрогляд.
А питайся воздухом —
На один оклад.
Где же страх погибели
В сере да в смоле?
Я ему о Библии.
Он мне о рубле.
Тогда, естественно, я не знал этого
стихотворения, да и никто не знал, хотя написано
оно было давненько. А вот Волков попал в руки
как раз в ту пору.
«Ведь не обмирщившаяся церковь одолевала зло,-
соглашался я с ним. - А простые слова любви и
прощения, евангельские заветы, отвечавшие,
казалось, извечной тяге людей к добру и
справедливости. Если и оспаривалось в разные
времена право церкви на власть в мире и
преследование инакомыслия, то никакие
государственные установления, социальные реформы
и теории никогда не посягали на изначальные
христианские добродетели. Религия и духовенство
отменялись и распинались — евангельские истины
оставались неколебимыми».
Но дальше я не вполне был согласен: «Вот почему
так ошеломляли и пугали открыто провозглашенные
принципы пролетарской «морали», отвергавшие
безотносительные понятия любви и добра <…> Как
немного понадобилось лет, чтобы искоренить в
людях привычку или потребность взглядывать на
небо, истребить или убрать с дороги
правдоискателей, чтобы обратить Россию в
духовную пустыню!». Нет, наше поколение все же
смотрело в небо, даже много смотрело. Пусть не в
поисках Бога, а мечтая о полетах в космос, - но
не стремясь ли все к тем же «безотносительным
понятиям любви и добра»?
Хоть и на атеистической основе, но мы все больше
расходились с официальной идеологией и
приближались к нормам христианской морали с
другого, что ли, конца. Нижеследующее для нас
уже было неприглядными страницами истории, от
которой мы отталкивались:
«Крепчайший новый порядок основался прочно — на
страхе и демагогических лозунгах, на реальных
привилегиях и благах для восторжествовавших и
янычар. Поэты и писатели, музыканты, художники,
академики требовали смертной казни для людей,
названных властью «врагами народа». Им вторили
послушные хоры общих собраний. И неслось по
стране: «Распни его, распни!» Потому что каждый
должен был стать соучастником расправы или ее
жертвой.
Совесть и представление о грехе и греховности
сделались отжившими понятиями. Нормы морали
заменили милиционеры. Стали жить под
заманивающими лживыми вывесками. И привыкли к
ним. Даже полюбили. Настолько, что смутьянами и
врагами почитаются те, кто, стремясь к истине,
взывает к сердцу и разуму, смущая тем
придавивший страну стойловый покой».
Я со смутившимся духом вдруг ловлю себя на
мысли: не относятся ли эти слова гораздо больше
к нашему сегодняшнему времени? «Распни его!»
требовали и победившие «демократы», причем даже
без кавычек и именем Божьим. Вот характерная
страстная молитва заклятого врага «крепчайшего
нового режима» Владимира Ионова (и того же
Солженицына, и многих других – не только «гулаговцев»)
из неопубликованной, конечно же, «Сказки о
Хруще»:
Мать-Россия, как мне быть?
Как мне разделиться?
Чтоб тебя не разлюбить
И ни в чем не слиться
С оголтелою толпой
Большевистской черни,
Хитрой, жадной и тупой,
Из земли, как черви,
Вылезающей на свет,
Чтобы жрать и гадить,
Твёрдо знающей секрет,
Где стрелять, где гладить?
Я мечтаю по ночам
Всё одно и то же,
Я сгораю, как свеча,
Помоги мне, Боже!
Помоги придумать мне
Бомбу адской силы,
Чтоб она по всей стране
Эту мразь скосила.
Чтоб она разить могла
По особой мете -
В оттиск лысого чела,
Что на партбилете.
И не тронула других
Ни одним осколком.
Но… отнюдь не бомба стих –
Не поможет толком…
Это разве по-христиански, отвечает «евангельским
истинам»? Истинам, против которых ничего не
имеет, вроде бы, нынешняя власть, хотя вовсе не
руководствуется ими. Притом, что
восстанавливаются и строятся новые храмы. Это
мы, наше поколение, так понимаем. И о грехе и
греховности мы понимали гораздо больше, чем
поколение, выросшее на развалинах
марксизма-ленинизма, или та «демократическая
чернь», которая пришла на смену большевистской
(зачастую, просто перекрасившись).
Меня так и подмывает сравнить Церковь с
дурманящей дымовой завесой, под покровом
которой, при демонстрируемом невмешательстве в
светские дела, граничащем с молчаливым
согласием, как раз рушатся сегодня и без того
расшатанные барьеры – прежде всего, в юных
беспробудных душах.
Но что-то удерживает. Может быть, как раз тот
спасительный «барьер», неизвестно кем
установленный? К стихотворению о церкви есть у
Ионова позднейшая приписка: «Сегодня я не
решился бы написать такие стихи, зная, какие
нелегкие времена переживает Православная
Церковь, со всех сторон окруженная своими
давними и непримиримыми врагами, все еще не
похоронившими давнишнюю мечту «искоренить,
укротить ересь Фотия». Но что было, то было. Из
жизни, как и из песни, слова не выкинешь. Тем
более, что сегодня я не могу покуситься на свою
жизнь, потому что знаю, Кто мне ее дал и Кто
является истинным Хозяином ее. Но от этого
знания мне ничуть не легче жить. И дело вовсе не
в старости с ее хворобами»…
Удивительное дело. Как не сравнить здесь судьбы
двух русских писателей, проведших лучшую часть
жизни в советских тюрьмах и лагерях. У одного –
28 лет, у другого – 20. И вот, пройдя через этот
ад, один, изначально имея Веру, не потерял, а
скажем, усомнился (потом последует возвращение
окончательное, но момент характернейший: автор
рассказывает о десятках людей, раздавленных,
разуверившихся, потерявших образ Божеский и
человеческий); другой, не знавший Бога,
осквернявший храмы и надругавшийся над образом
Спасителя, - получил «неоспоримые свидетельства»
промысла Божия и обрел Веру.
Думаю, прежде, чем продолжить, следует об иных
из этих свидетельств сказать. И сказать устами
самого Ионова, вернее одноименного героя его не
автобиографической даже, а, я бы сказал,
исповедальной повести «Солдат Вермахта, или
красная полоса». Это небольшой фрагмент диалога
двух однокашников, встретившихся почти жизнь
спустя. Галя – дочь заведующей детдомом и он.
Владимир, - трудновоспитуемый сирота военной
поры. Рассказывает недавний зэка:
«…Беда еще в том, что для куража надо было и
авторитет какой-то иметь. А забравшись в чужой
сад или огород, авторитета не добьешься - какой
пацан этим не грешил? Ну, и шел я как-то с
кем-то из первогодков по кладбищу - любил и
люблю бродить по кладбищам! - проходим мимо
каплицы и я спрашиваю:
- Не хочешь подухариться - слабо забраться в
каплицу?
Он и руками и ногами отбояривается: «Боюсь!»-
Плюнул я на него: «Тоже мне детдомовец!» -
примерился к решетке - окно в каплице невысоко
от земли - и рука и голова пролезли. Заметь, это
в мои-то пятнадцать документальных лет!
Проскользнул я в каплицу, а что в ней брать –
железные венки? гробы? Кроме этого антуража в
ней, на первый взгляд, и не было ничего. Но,
занимая добрую треть всей каплицы, у задней
стены стоял огромный деревянный ларь со столом и
спинкой позади него; пыль, паутина и дверцы
ящика. Раскрыл я его, а в нем - шесть, бронзовых
по виду, подсвечников, и в каждом не меньше пяти
килограмм. Вытащил я один, поставил на крышку
ларя и решил проверить, в самом ли деле он
бронзовый. А в кармане у меня была недоделанная
финка - лезвие с тонким штырьком под набор.
Чирканул я острым мыском по подсвечнику и
обрадовался - под бронзовой краской тускло
засветился то ли чистый свинец, то ли сплав
свинца с оловом.
Подал все шесть подсвечников своему напарнику
через окно с наказом спрятать тут же на
кладбище. Больше брать вроде нечего , <строка
или две пропущены> а позади, слева от него,
висит черный деревянный крест. На нем, на
ржавых, вылезающих из подгнивших гнезд гвоздях
по-живому распят Иисус Христос - тоже по виду
бронзовый. Подошел я к Живому, тем же финяком
провел по Нему и располосовал от груди до
половины живота...
- Как ты можешь такое рассказывать? -
округлившимися глазами уставилась на меня Галя.
- Так, может, замолчать?
- Ты что? - испуганно встрепенулась она, -
страшно, а интересно.
- Литье оказалось тонким и тоже свинцовым
сплавом. Тогда я выдираю из креста Его
руки-ноги, просовываю в окошко - не пролезает.
Сама статуэтка высотой что-то около полуметра,
а руки широко по сторонам раскинуты, как у
православного, а не католического распятия.
Надломил я Ему руки, прижал их к телу - пролез
Христос сквозь решетку.
- А зачем тебе нужен был свинец?
- И старьевщики принимали, и мода пошла на
кастеты.
- Христа на кастеты? - ужаснулась моя неверующая
слушательница.
- Да, и Христа и подсвечники вечером в общежитии
пустили на кастеты.
- И что тебе за это было? - как споткнувшись,
остановилась Галя и в тревожном ожидании
уставилась на меня.
- А вот смотри, - не стесняясь, я задрал на себе
рубашку, майку, обнажил живот, - видишь след от
моего финяка? От солнечного сплетения и вниз -
даже размеры совпадают.
- Да как же так? - веря и не веря, переплетя
руки пальцами, прижав их к груди и уставясь на
мой уродливый шрам, вслух думала она.
- Это не все, Галя, смотри дальше, - обнажив
левый сосок, я показал ей другой - поперечный -
шрам, - видишь верхнюю перекладину креста,
разломанную и отнесенную в сторону.
- Ви...вижу, - с трудом произнесли ее губы.
- Могу показать и еще более уродливые шрамы, но
и эти два - следы одной пули.
Вместо того, чтобы укорить меня за бесстыдство,
Галя дрожащими губами выговорила:
- Так это... правда?
- Божья кара? Абсолютная правда, - ответил я,
заправляя рубаху, - и, к сожалению, не вся она
вместилась в эти шрамы. Как я мучился с руками,
как их крутило, выворачивало, ломало каждый год
в одно и то же время на исходе лета, в самую,
казалось бы, благодатную пору! Понимаешь, не в
осеннюю слякоть, не в зимние северные морозы,
не в весеннюю чересполосицу почасовых перемен
погоды, а в устойчивые погожие дни, когда все
лезет погреться, понежиться на подобревшем после
отбытия круглосуточной летней вахты солнышке, я
не знал, куда деваться с руками, как только
солнце скрывалось за тайгой.
- И сейчас болят?
- Нет! Сейчас я ежедневно молюсь - и все
нормально.
Как бы удовлетворенная ответом и не выражая
больше сомнений, она задумчиво, замедленным
шагом переступала с ноги на ногу, выбирая, куда
поставить не очень-то пригодный для такого
маршрута высокий каблук. И во время заминки
мгновенного раздумья куда шагнуть, влево или
вправо, спросила:
- А как ты пришел к вере или, как ты говоришь, к
знанию Бога?
- Ты и слышала и видела мой путь - путь
отрицаловки. А это не только страшный - это и
гадкий путь. И я рассказал тебе о том, о чем
могу, хоть и не всем, рассказывать. Но есть вещи
или дела, о которых я сам себе боюсь напоминать
- настолько они постыдны. Хоть в свое время,
вытворяя те гадости, я не видел в них ничего
постыдного, все было на нормальном житейском
уровне: «лови момент, смерть все спишет»,
И ты придешь к Богу - если придешь! - своим
путем, а не моим, потому что к Нему ведет много
путей, а вот от Него есть только один путь -
обращение к сатане, к бесу, к нечистой силе, -
называй, как угодно, не ошибешься».
Тема о доказательствах бытия Божия в прозе
Ионова – одна из наиболее значительных, но
приводить здесь еще какие-то примеры, думаю,
излишне: сам Ионов – главный пример и чудо
истинное. Он не дворянских кровей, как Олег
Волков, получивший прекрасное воспитание и
образование, владевший свободно иностранными
языками и «баловавшийся пером» еще до своего
ареста. И не по политической статье сидел. И на
зоне приличным поведением не отличался, а
козырял верностью воровским законам. Как это
«смерть все спишет» сменилось Верой? Как
родились эта замечательная поэзия и проза, и
даже оригинальные богословские трактаты?
Воистину неисповедимы «пути господни» (название
большого цикла «лагерных» рассказов). И можно ли
терять надежду нам всем и каждому в
отдельности, когда из подобных пропастей
открывается вдруг столь высокий путь. Ионов
считает, как видим, что он единственный.
Хотя Вера его больше от ума, от пережитого
страха Божьего, и радостей она не много дарила
ему: «… Я - не столько верующий, сколько
знающий. То есть Бог для меня - не вера, а
твердое знание. Верой мое знание можно назвать в
том смысле, что я верую в безграничные
творческие возможности Бога, в Его доброту, в
Его милосердие, а само Его бытие - для меня
абсолютное, не подлежащее сомнению знание», -
говорит его герой. Его Вера – искупительная,
жертвенная. Возможно, внешнее благополучие и
«счастье в личной жизни» Волкова и Солженицына
не сделали бы его счастливей. Прежде, чем не
соглашаться или улыбаться скептически, прочтите
еще одно стихотворение В.Ионова.
Ему предшествовало чудо –
Полет неведомой звезды.
Ему сопутствовал Иуда
Неотвратимостью беды.
Сошлись в одном Земля и Небо:
Душа - не прошлогодний снег,
И не единым только хлебом
Живет на свете человек.
Но заглушили злак плевелы –
Прополкой не перебороть.
И торжествует всюду тело,
Подчеркнутое словом «плоть».
И смерть грозит за правду речи -
Не уповай на небеса.
Но гибли все Его предтечи.
Так мог ли Он себя спасать?
Не уповал и не берегся,
Не отвратил Голгофы миг,
Чтоб трижды от Него отрекся
Его вернейший ученик.
А тайну, тайну воскресенья
Не постигаю и молчу,
Поскольку знаю – нет спасенья
Поднявшим крест не по плечу.
Но если мне до боли худо,
Я все о том же, все о том:
Почти доступно стать Иудой,
Почти немыслимо – Христом.
Мне ничего не хочется добавлять к двум последним
строчкам и делать какие-то выводы. И если
терпеливый читатель, дойдя до этой концовки,
спросит: что, собственно, хотел сказать автор
этим материалом – признаюсь: не знаю. Но я
рассказал свои истории, поставил рядом эти два
непредставимых лагерных срока, в которых не
погибли, а только возвысились души. Не знаю… Мне
стало легче дышать.
 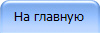
|
|