|
Как часто в последнее время, припоминая годы
работы в «Смене» и «Рабочем пути», безысходно
упирался в невозможность поправить, как
представлялось мне, трагическую
несправедливость многих и многих судеб дорогих
для меня людей – коллег-журналистов, которые всю
свою жизнь прожили «под обллитом». То есть не
смогли сказать, сделать то, на что способны были
по своему дару и гражданскому, профессиональному
долгу, весьма высокому в их понимании. Так мне
однажды с болью «открылось», и так же недавно
вдруг усомнился: наверное, все же я ошибся, и
это – обидная для памяти ушедших из жизни коллег
неправда.
Они-таки смогли самореализоваться, сумели найти
какие-то свои стежки-дорожки к людским сердцам и
в обход «обллита» (все же не самый страшный
зверь он был). Порой совсем неожиданные.
Казалось бы, что такое спортивная рубрика в
партийной газете? Но до каких высот поднялся от
традиционных отчетов Орик Лонский в своих
эмоциональных репортажах о матчах «Искры», даже
выездных, на которых не присутствовал.
Собственно, невероятный футбольный бум, выход
смолян в первую лигу и невиданные кубковые
достижения 70-80-х годов – его рук дело. А какие
замечательные, отмеченные на всесоюзном уровне
справочники готовил Орик Иванович! Не будучи сам
футбольным болельщиком, но будучи талантливым
журналистом и профессионалом с самой большой
буквы. С какой убедительностью это проявилось в
последние его годы, уже под знаком самой
страшной и безнадежной болезни, в его страстных
публицистических статьях, в которых отстаивал он
идеалы и свершения своего и предшествующих
поколений советских людей. Каков был резонанс
этих статей! И опять-таки не могли понять, «что
тут такого особенного», редакционные радетели за
равенство в гонораре и лимит в двести строк на
газетный материал – без каких-либо исключений.
Но, слава богу, исключения были. Из какого,
казалось бы, беспросветного «села» - из районки,
с ее сугубо регламентированной тематикой и
фразеологией, пришел Александр Сиваков. Не
только как журналист-универсал, но как едва ли
не профессиональный искусствовед. Так никто не
писал у нас о живописи и художниках, никто так
не понимал и не умел чувствовать и ценить
прекрасное. И не только на картинах. Александр
Михайлович жить не мог без «побегов в природу».
Как-то новыми глазами перечитал его
замечательные путевые очерки о лодочных походах
«из варяг в греки». Какие у него люди, какой
Днепр! А до этого – у Владимира Пантелеева,
которого я еще застал в редакции, но этих его
талантов «певца родной природы» не знал.
Замечательные картины, сочный язык.
Или ныне здравствующий (увы, пенсионер уже)
Валерий Сухорученков, если уж говорить о языке и
«своем следе» в журналистике. Какие
незаштампованные слова, какие выразительные
подробности, какие личности открывал он,
рассказывая о проблемах и трудах смоленских
крестьян. (Кстати, и Сиваков замечательно писал
именно очерки, а не «зарисовки» по мотивам
трудовой книжки). И тут же Валентин
Красильников, наш ярцевский собкор, умевший
увидеть тему, где, казалось, и намека нет на
материал, или развернуть некое казенное
редакционное задание неожиданным, «человеческим»
боком…
Собственно, и объединяло всех настоящих
журналистов (а их долго еще можно перечислять),
с которыми свела судьба, именно вот это
понимание работы, как служения простым, а не
только высокопоставленным людям, стремление
помочь, защитить. И, прежде всего, они были
хорошими людьми с очень непростыми судьбами, и
при одном воспоминании о них теплеет на сердце,
становится легче, когда к самому подступает
отчаянная безысходность…
К чему это я, и что дало вдруг такое
направление мыслям? Вы, наверное, удивитесь, но
толчком стали стихи Владимира Ионова, о котором
начал разговор в прошлом номере «Смоленска» и не
могу не продолжить… Даже не рискну уточнить,
какой объем и характер будет у этого разговора,
но пока держит меня творчество многострадального
поэта неким ощущением вины, долга и … чем,
собственно, держит нас настоящее искусство?
А отправной точкой сегодня будет посвящение,
которое настойчиво повторяется поэтом в
нескольких произведениях, относящихся,
безусловно, к числу лучших. Некоей Т.Г.
Назаровой посвящается упоминавшееся
стихотворение «Материнский хлеб», даже
победившее на каком-то солидном конкурсе в
советское время. И на то же самое «Т.Г.
Назаровой» я наткнулся, знакомясь с не
публиковавшейся доселе объемной вещью, жанр
которой определить как просто «стихотворение»
было бы, видимо, несправедливо. Это не так уж
редко встречающееся в поэзии письмо в стихах. Но
письмо настолько «неличное», крупное, я бы
сказал, открытое в вечность, что мне показалось
невозможным не узнать: кто же такая эта Т.Г.
Назарова, что удостоилась подобного.
Оказалось, коллега – корреспондент «Рабочего
пути». Задолго до моего прихода работала она в
редакции, и я, естественно, собственными
впечатлениями поделиться не могу. Помогла одна
из ветеранов «РП» - Елена Петровна Погожева. По
ее словам, Татьяна Григорьевна (так
расшифровывается «Т.Г.») в Смоленск приехала
после войны, уже в возрасте, «кажется, откуда-то
из Прибалтики» и работала корреспондентом, затем
заведующей отделом писем. Она была
профессиональным журналистом с довоенным стажем,
но, главное, запомнилась коллегам и
многим-многим смолянам (и не только) как человек
«большой души». Все свое время отдавала она
поиску потерявшихся в войну детей, которых было
тогда неисчислимое множество.
Постоянно возилась Татьяна Григорьевна со
своими «найденышами», как называла она
разысканных «сирот». Они и их родственники без
конца шли к ней в редакцию и на квартиру, где
журналистка обязательно всех кормила-поила. Все
они были ей, как родные, со всеми она
переписывалась до конца дней своих.
Володя Ионов оказался одним из «найденышей»
Т.Г. Назаровой. Его друг, поэт Николай Бондарев,
рассказывал мне, что Володя долго после войны, и
уже попав в ГУЛаг, считал, что все его
родственники погибли. Но остался в живых отец,
который после войны завел новую семью, остались
в живых и появились новые братья и сестры… Вот
то, что никому не нужный «круглый сирота» стал
вдруг вовсе не круглым и не одним на этом свете,
заслуга Татьяны Григорьевны: она ему как бы
новую жизнь подарила, какой-то свет в этой
кромешной жизни. И это навсегда осталось главным
для Владимира Ионова.
Думаю, это лучше всяких слов был ему пример,
как при любых обстоятельствах помнить в себе
человека и нести, дарить другим свет. Так
уверенно говорю, потому что мне самому, пусть не
столь ошеломляющие, но именно такого рода уроки
и именно от коллег-журналистов получать
доводилось. Неслучайно в моем представлении
образ неведомой мне Т.Г. Назаровой сливается с
чертами незабвенной Александры Петровны Валуевой
или Ольги Чулковой, которая так же всегда
бросалась (и остается такой поныне, работая в
«Смоленской газете») первой помогать и защищать
слабых, униженных и оскорбленных. Оказывается,
вот как это все оборачивается, вот какой
глубокий смысл и насущная необходимость в таких
людях, таком служении. Приведенное ниже «письмо»
Владимира Ионова (на тот момент зэка с огромным
стажем) представляется мне в данном контексте
неким высшим документальным свидетельством
(своеобразного эпического свойства).
ДОРОЖНАЯ
Т.Г.Назаровой
Вы не обязаны ответом -
Пишу в дороге, путь далёк,
В краю неласкового света
Осенним утром он пролёг.
Я жив-здоров. Одет по форме
/Старухи крестятся в пути/,
Накормлен по разумной норме -
Чтоб не пролить, не растрясти.
(Какая выразительность и лаконичность
разговорной речи! Приходит на память
Твардовский. – П.П.)
И в общем-целом, покидая
Небитым Северный Урал,
Доволен я и наблюдаю
Людей, дорогу - для пера.
Нас двадцать пять набито в кузов,
Накрытый клеткой по плечо,
С клеймом небьющегося груза,
С насмешкой:
- Чем не Пугачёв?
И прочей гадости довольно.
Но это не из новостей.
Важнее, что смешно и больно
Худобой тазовых костей
О пол вёрст двести с добрым гаком
Пустою тарою стучать
И головой о борт со смаком
Число колдобин отмечать.
Но слёз не вызовет разлука.
А за бортом грузовика -
Тайга, тайга, реки излука,
Тайга и поперёк река,
Парома грузное движенье
/Здесь не слыхали про мосты/,
И признак близкого селенья –
Погоста серые кресты.
Над ними каменной коробкой
/Опричник даже кровлю снес!/
Церквушка притаилась робко
Под кущей сосен и берёз.
(Несколькими мастерскими мазками запечатлена
замечательно характерная картина! – П.П.)
/За тридцать три неполных года
Я не обрёл здоровый вид.
Но здесь болезнь иного рода –
Здесь чувство Родины болит:
Везде, где Русь державным шагом
Мужицкой лапотной ноги
Ступала с дерзкою отвагой,
С извечным «Боже, помоги!»,
Она не в память человеку,
Удачливей других в судьбе,
Церквами зарубала веху -
Но вечный памятник себе.
И власти, ясно понимая,
Какая губится краса,
Сегодня рушат и ломают,
Чтоб завтра закричать: «Спасай!»/
И вот уже халупой-домом
Села недолгий начат счёт,
Где жизнь уральского чалдона
И протекает и течёт.
Течёт ни в том, ни в этом свете,
За гранью смысла бытия:
Здесь, говорят, сам Пётр заметил:
«Край, непригодный для житья».
Категорично и глумливо,
Как всё, что он дерзал творить,
Хотевший в мировое диво
Российский сон перекроить.
Но даже он, презревший жалость,
Весь погружённый в суету,
Не верил, чтобы здесь дышалось
Ни человеку, ни скоту.
Зато, когда взошли иные
На опустевший русский трон,
Душой и помыслом стальные,
«Страну заковывать в бетон»,
Их неустанною заботой
Преобразился дикий край:
В гнилую прозелень болота,
В застойный комариный рай,
Где и охотнику грозила
В промашке смертная беда,
Пришла испытанная сила
В обличье рабского труда.
Пришла велением эпохи
Уже не под кандальный звон -
Здесь клейкой хлебной глины крохи
Навязывали свой закон.
Закон до дикости нелепый.
Но он звучал, звучит окрест
Насмешкой над людьми и хлебом:
«Тот, кто работает - не ест!»
И заглушили ветра всхлипы
В чащобе сосен вековых
Бессилья сдавленные хрипы
Да лай собак сторожевых.
А чтобы в силу боль не зрела,
Свистели пули, как в бою:
Когда-то здесь и я с прострелом
Лежал, расстрелянный в строю.
И оклемался в той же самой
Палате, у того ж окна,
Что помнит Осю Мандельштама,
Забыв другие имена.
С тех пор в столетье набежало
Без малого пятнадцать лет.
Окрепла силою держава
На фронте трудовых побед
И, каждый день являя миру
Свободной воли чудеса,
Выстраивает по ранжиру
Ударных строек корпуса.
А ниже стен, под стояками,
Костьми фундамент заложив,
Лежат, спрессованные в камень,
Рабы, вздымая этажи.
И не найдёшь такого дела,
Где бы отчаянно и зло
Раб не вонзал в земное тело
Топор, лопату и кайло.
Вопрос не в том, добры ли плохи
Те, кто держал кайло, топор.
Они - знамение эпохи,
Её проклятье и позор.
И время боли не остудит
И чёрного не обелит:
Какие б ни явились люди
Владеть наследием земли,
Забвением неопалимы,
Рука с рукою сквозь века,
Пройдут бродяга с Сахалина
И с бухты Ванина зэка.
И всем бродягам однолетка,
Всем обездоленным родня,
Проеду я в железной клетке
На плаху брежневского дня...
(Весь этот кусок воистину «державным шагом»
шествует в русскую классику. – П.П.)
Но если Вам неинтересно
Читать докучный пересказ
Того, что всем давно известно,
Я перейду от общих фраз
К конкретному.
Посёлок Ныроб
/Хохлы читают как Нэ робь/
Своей историей унылой
Не дотянул до высших проб,
Каких достигли в оны годы
И Магадан и Воркута.
Не то, чтоб отставал от моды –
Масштаб не тот, земля не та.
Там были золото и уголь,
Здесь - древесина, а она
В смертельной хватке недосуга
Не столь отчаянно нужна.
Там истреблялись миллионы,
Здесь - тысячи. Контраст велик.
Наш век, в жестокость
развращённый,
Считаться с малым не привык.
И потому там всё умыто
Пахучим мылом «комсомол»,
А здесь, в грязи, царит открыто
Всё тот же старый произвол.
Конечно, не без изменений.
Заметен явный интерес
К наследству тонких изощрений
СД, Гестапо и СС.
Вас удивляют параллели?
Я тоже горько удивлен
Союзу величайших целей
И средств коричневых времен.
Но вот пример -/схожу на прозу/:
Ревира лагерного сруб,
А по ревиру чёткий лозунг
Вещает: «Лучший доктор - труд».
Зачем? На что? Кому в угоду
Не очень умная игра
Со своевольным переводом
Подстрочника «Арбайт махт фрай»?
Вот эти самые вопросы,
Что воплем рвутся с языка,
Условность всякую отбросив,
Я изложил в письме в ЦК.
Судьбу письма гадать не смею:
Сплошная тайна - царство тьмы.
Зато доподлинно имею
Два года каторжной тюрьмы.
Формально, по иным причинам.
Одна из них - недавний бунт,
Где я расписан, чин по чину,
Как истый лагерный трибун.
Предвижу Ваш ответ сердитый,
Что, отрицаньем заражён,
Я с безоглядностью пиита
Повсюду лезу на рожон,
Что Вы меня напрасно ждёте,
Что мне по нраву этот мрак,
Что сам себе, в конечном счёте,
Я - наизлейший в мире враг.
Но я не спорю. Я не спорю.
Вы правы, правы, как всегда:
Не вычерпать ладошкой горя -
Поглотит чёрная вода.
Не прошибить стены железной
Слепым ударом кулака.
Всё - так. Всё - мудро. Всё -
полезно.
Всё - неизменно на века.
До той отчаянной минуты,
Когда всё - к чёрту! Всё - вразнос!
А мир от боли сжался круто
В один-единственный вопрос:
За что? А он лежит убитый,
Забывший лагерь и тюрьму,
Рваниной грязною прикрытый
И равнодушный ко всему.
Лежит не первый, не последний.
Солдату - отпуск, нам - урок
О том, что правит здесь обедню
ЧК - всесильный царь и бог.
Так что ж, молчать в немой привычке
И ждать, когда другой урод,
Возжаждавший сержантской лычки,
Отметит пулей твой черёд?
Ну нет! Благодарю покорно.
А если массой боль рычит,
То лишь подлец и трус позорный
За спинами других молчит.
Не верю, чтобы Вы желали
Мне сладкой доли подлеца
И ради этого жевали
Свои советы без конца:
Советы жить, советы верить,
Советы правду возлюбить,
Лишь ею всё на свете мерить
И до конца ей верным быть.
Советов жить не принимаю.
Всё остальное по плечу.
В том смысле, как я понимаю,
Как я могу и как хочу.
Не принимаю жизнь холуя
От верноподданных стихов,
Которого всю жизнь фалуют
Подачкой слабости оков.
А Вы советовали это,
Ссылаясь на себя, других.
Как будто можно быть поэтом,
На цепь сажая вольный стих?
Да лучше разом рухнуть в яму
От пули в спину или грудь -
За Гумилёвым, Мандельштамом,
От тех же рук и в тот же путь...
Ныроб – Чердынь - Соликамск
1971 г.
Нельзя не ощутить здесь свободное дыхание и
державную поступь неподражаемого классического
стиха, не присмиреть той циничной частью нашего
«я», которое склонно подавать по ходу дела
язвительные реплики. Не говорю здесь о
безусловном поэтическом мастерстве, но насколько
очищен этот стих от всего суетного и мелочного,
какая свобода духа обнаруживается вдруг в этой
«пугачевской клетке»! Та свобода, которая не
обременена отродясь неиспытанным чувством
какой-либо собственности, торжествующего
корыстного, шкурного интереса. Полноте, не мы ли
с вами истинные рабы? Не нам ли,
«законопослушным» и благополучным, рвать волосы
и посыпать пеплом? Не нам ли, раз уж случился
такой запев, пишущей братии, примерить к себе
(«бесцензурным»!) хотя бы вот это:
Не принимаю жизнь холуя
От верноподданных стихов,
Которого всю жизнь фалуют
Подачкой слабости оков.
А Вы советовали это,
Ссылаясь на себя, других.
Как будто можно быть поэтом,
На цепь сажая вольный стих?
Грубовато, «нелитературно»? А, по сути, верно.
Больше скажу, тогда и в голову не приходило
поэту хотя бы косвенно упрекнуть журналистку в
элементарном корыстолюбии, которое крупными
буквами написано на знаменах нынешних СМИ:
«Главное – срубить побольше!» (какой уже там
вообще «стих», тем более «вольный»). В голову не
приходит пожалеть «несчастного зэка», у которого
законная «собственная гордость»: чьими руками,
действительно, освоены те «непригодные для
житья» края, которыми жива Россия сегодня? Как
ни странно, вдруг ловишь себя на мысли: а ведь
этот обездоленный человек, у которого не на
шутку «чувство Родины болит», много нас богаче.
Не буду здесь пытаться обосновывать. Просто
приведу еще одно неопубликованное стихотворение
Владимира Ионова:
Королевство без подданных -
Одни короли.
На тарелочке поданы
Все богатства земли.
Друг на друга похожие,
Там не люди живут -
Ко всему толстокожие
Там справляют уют.
Ни о чём не заботятся -
Всё приходит само.
И царит безработица
Сердец и умов.
Все горячие головы
Там давно снесены -
Ходят истины голые
От весны до весны.
Ни забот, ни сомнения -
«От» и «до» решено.
Лишь особого мнения
Никому не дано.
И жиреют похожие,
Справляя уют,
Ко всему толстокожие –
Не живут, а жуют.
Королевство далёкое
Где-то рядом со мной.
Шёл я мимо да около
И прошел стороной.
Все мы, наверное, не затрудняемся с
подстановкой имен для этого «королевства». И не
построением ли чего-то подобного нас соблазняют
сегодня? Каждый ли может вот так же сказать про
себя, что «прошел стороной» мимо соблазнов
«жующего» рая? Кто-то, наверняка, спросит: «А в
клетке лучше?». Отвечу честно: не знаю – не
пробовал. Но, верю, что есть такие «чудаки» (не
все вымерли!), которые считают, что лучше даже:
«За Гумилёвым, Мандельштамом, От тех же рук и в
тот же путь...».
Бог весть, когда все это написано, и бог весть,
сколько веков не утратит своей злободневности –
безошибочный признак, неотъемлемое свойство
истинного слова…
 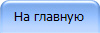
|