|
На сцене меня обступили
пожилые, воевавшие рабочие, у многих были на
глазах слезы. Они выражали благодарность поэту
«за чистую правду, которую сказал о смоленских
людях писатель Твардовский». Старый тракторист
Иван Яковлевич Зернов предложил написать поэту
коллективное письмо с благодарностью за то, что
так правильно сказал и о Сталине, и о нашей
деревенской жизни.
...Прошло несколько лет. Моя любовь к поэзии
Твардовского все более крепла. Из совхоза меня
перевели в обком партии. Поэт за время моей
работы несколько раз был в Смоленске, заходил в
обком, но встретиться с ним мне не пришлось ни
разу. Наконец, такая встреча произошла, и я не
могу удержаться от соблазна рассказать здесь о
ней, хотя к образу поэта и человека мой рассказ,
очевидно, не прибавит ни одной черточки. В моей
же памяти эта встреча осталась на всю жизнь, со
всеми ее деталями.
А было это так. Заканчивалось какое-то
оперативное совещание в кабинете первого
секретаря обкома партии Н.И. Калмыка, из
приемной вошла девушка и доложила, что пришел
товарищ Твардовский. В кабинет он вошел, слегка
сутулясь, но твердым шагом, в котором мне
показалось что-то матросское. Н.И. Калмык из-за
стола вышел его встретить, приветствовал «на
родной Смоленской земле» и представил членов
бюро обкома: Гнедов, Яровая, Москвин,
Добровольский... Твардовский поклонился легким
кивком и заметил, что с Гнедовым он знаком
давно, с Яровой приходилось встречаться.
Присесть отказался.
- Не стану мешать. Я «по вопросу транспорта», -
улыбаясь, в тон только что исчерпанной повестке
дня сказал он. - Хочу побывать у брата в Лоннице;
смоленские писатели - пешие, а где его добудешь,
кроме обкома партии?!
- Распорядитесь, - сказал мне Калмык.
Твардовский поблагодарил, раскланялся со всеми,
и мы вместе с ним вышли в приемную. Здесь
оказался Николай Рыленков. Здороваясь с ним, я
спросил Александра Трифоновича, сколько человек
с ним едет и куда подать машину.
- Один, как есть! Уговаривал Николая Ивановича,
а он меня тянет в Слободу.
- Пойми ты, Александр Трифонович, не могу.
Евгения Антоновна с ног собьется, если не приеду
с последним автобусом; позвонить ей не могу, -
извинительно сказал Рыленков.
Случилось, что в гараже обкома партии все машины
были в разгоне, первая могла появиться только
через час. Зато под окном Дома Советов стояла
закрепленная за мной «Волга», на которой я
собрался выехать по той же дороге до райцентра
Красный. Внезапно пришла мысль, не бескорыстная,
пригласить Твардовского с собой. Спросил его,
как он отнесется, если до Лонницы я составлю ему
компанию? При необходимости я мог оставить ему
машину, а в Красный уехать на совхозной.
- Почту за честь иметь такое ответственное
сопровождение, - с оттенком, как мне показалось,
иронии сказал поэт. Приходилось слышать, что
Твардовский не жаловал нашего брата-чиновника,
но я не стал придавать этой фразе значение, тем
более что вмешался Рыленков и что-то скаламбурил
насчет замены одного тезки другим. На мою
реплику, что не каждый тезка «взаимозаменяем»,
Твардовский промолчал, а Рыленков сказал: «Вам
будет, о чем поговорить».
На переднее сидение в машине Твардовский сесть
отказался. Мы оба устроились на заднем. А когда
машина тронулась, он как-то мрачновато пошутил:
- Не уступайте легко своего места, а то
охотников и на кресло найдется предостаточно.
Я ответил шуткой, но почувствовал себя неловко.
«Черт меня дернул, - подумал, - навязаться в
попутчики!» Но очень хотелось побыть с
Александром Трифоновичем, познакомиться поближе.
Да и не только это. Как-то между секретарями
обкома партии возник разговор о строительстве
монумента Победы в Смоленске. Согласились с моим
предложением попросить писателей-земляков, в том
числе и Твардовского, высказать свое мнение о
том, каким им видится памятник событиям Великой
Отечественной войны в их родном городе. Я
считал, что литературная основа памятника будет
полезна для скульпторов и архитекторов. Теперь
намеревался завести об этом разговор. А чтобы
легче перейти к нему, обратил внимание земляка,
хорошо знавшего город, на новую планировку
Смоленска; похвалился только что возведенной
тогда дамбой с трамваем через Чуриловский ров.
Александр Трифонович не проявил интереса к моему
экскурсоводству и сидел какой-то нахохлившийся.
Я определенно почувствовал, что дал ему повод
думать о себе, как об очередном нахале, который
набивается на знакомство со знаменитостью.
Молча проехали западный мост на Днепре, миновали
железнодорожный виадук и выехали на Витебское
шоссе. У меня мелькнула мысль завернуть на
Шкляную гору, самому остаться у знакомого
командира артиллерийского полка, а Твардовского
отправить с шофером. Это показалось бестактным,
да и в Красном меня ожидало совещание в районе.
Мы подъехали к переезду - тогда еще не был
построен новый виадук, - где очень долго
простояли, пропуская два или три поезда.
Возможно, как и я, Александр Трифонович
почувствовал взаимную неловкость, решил рассеять
скованность. Он знал, что я не коренной смолянин
и спросил, давно ли работаю в области. Услышав,
что «безвыездно» с июля 1941 года, понимающе
кивнул головой.
- Война породнила со Смоленщиной?
- Да! Еще тогда, когда «шли поротно и повзводно
и компанией свободной, и один, как есть,
подчас».
- Спасибо за память, - оживился он. - Чтобы
написать эти строчки, мне пришлось встречаться
со многими бойцами и командирами, выходившими из
окружений. От них много узнал; кстати, что
другие знать не хотели... Рыленков сказал, что
вы тут три года партизанили. Трудно было?
Я ответил, что приходилось всяко, но судьба
свела меня с великолепными людьми, подлинными
патриотами Родины, и вспоминаются теперь не
столько трудности, сколь полноценность
собственных ощущений и того дела, что было
сделано, хотя и через потери, кровь и постоянную
боль за страдание людей, оказавшихся в
оккупации.
Когда разговор заходит о войне, мне всегда
хочется сказать доброе слово о подвиге своих
однополчан. Но времени у меня было мало, и я
только заметил, что был участником боевого рейда
партизанского соединения Гришина,
«смолянина-земляка, о котором еще не написано
настоящей книги».
- Мне не пришлось близко встречаться с вашим
командиром, - сказал Твардовский, - но историк
Лев Бычков говорил мне, что дела партизан
Гришина не уступают по вкладу в разгром врага
боевым соединениям Ковпака, Сабурова и других
прославленных вожаков. Жалко, что мы часто
российские события либо преуменьшаем, либо
узнаем о них с большим опозданием. Союзные
республики действуют оперативнее, тут они
опережают Россию, их деятельность в этом плане
можно приветствовать.
- О Крымских и Северокавказских партизанах
написаны толстые книги, это ведь тоже Россия, -
не без умысла сказал я.
- В Крыму, видимо, было ужасно тяжело, но
партизанская война на Смоленщине и в Белоруссии
по масштабам несравнима с тем, что было на юге.
А Северный Кавказ? - там и полгода не удержались
немцы, - уточнил Твардовский.
Казавшаяся натянутость Твардовского постепенно
исчезала. Вначале показалось, что он опасается,
не пришлось бы ему всю дорогу выслушивать от
меня банальный рассказ «об успехах и
достижениях», которые, как он видел сам, в
области едва проглядывались. Я не имел намерения
приобщать его к «производственной теме», но и не
знал, «с чего начать». Выручило его замечание о
сравнительных успехах соединения Гришина с
формированиями прославленных вожаков. Мне
припомнился эпизод войны, связанный с именем
Александра Трифоновича. Захотелось передать его
поэту.
Коротко я рассказал, как весной 1943 года в
батальон, которым я командовал в полку Гришина,
белорусские ребятишки принесли побывавшую в
сотнях рук листовку со стихами Твардовского,
обращенными к партизанам Смоленщины. Это было
накануне разгрома гарнизона в Чаусах. Комиссар
батальона Михаил Гордиенков прочитал ее
партизанам; стихи произвели на ребят сильное
впечатление. Особенно призыв не щадить врага:
«Чтоб дорога трясиною пузырилась под ним; чтоб
под каждой машиною рухнул мост и - аминь!..»
Не одна листовка была тому причиной, но в Чаусах
и многих других гарнизонах враги были разбиты
сокрушительно. А стихи, сотни раз переписанные,
ходили среди партизан полка и других отрядов, а
также среди местной молодежи. Текст стихов даже
распевали на подобранный мотив, и от этого слова
поэта приобретали особую пронзительность,
глубоко западали в душу. Ребята из роты Михаила
Степанова зачислили Твардовского в подрывную
группу Петра Федорова, спустившую тогда уже
несколько эшелонов под откос. Через московский
штаб хотели сообщить об этом поэту, но не
позволила ограниченность питания в рации. Позже
острота информации отпала.
- Но песня, - закончил я свой рассказ, -
осталась надолго, а библейское словечко «аминь»
вошло в партизанский лексикон. Партизаны шутили:
мосту - аминь, эшелону - аминь, колонне на
большаке - аминь...
Я заметил, что Александр Трифонович не с полным
доверием отнесся к моим словам о символическом
зачислении его в диверсионную группу лейтенанта
Федорова. Он шутя, а может и с легкой ехидцей,
поглядел мне в глаза и осведомился: «не работал
ли я в отделах пропаганды до директорства в
совхозе?» Поэт был не легковерен, и мне пришлось
ему сказать, что история с его листовкой
написана в моих воспоминаниях после войны,
которые хранятся в архиве. После паузы Александр
Трифонович сказал:
- Я как-то не придавал значения в ходе войны и
после нее тем стихам. Они были написаны наспех
по заданию ПУРККА, но если стихи пролили хотя бы
малую воду на партизанскую мельницу - приятно
слышать.
Показалось, что «лед тронулся», Твардовский
«оттаял», и теперь уже можно спросить, каким ему
представляется будущий памятник в Смоленске...
Но лиха беда - начало! Я сказал, что не только
мой комиссар в годы войны вдохновенно читал
перед боем стихи, обращенные к партизанам
Смоленщины, но и мне в свое время пришлось
отвечать на вопросы рабочих о культе личности
Сталина стихами из его поэмы «За далью даль». Он
снова недоверчиво посмотрел мне в глаза.
- Ну, знаете, вы мне много льстите! - в голосе
слышалось недовольство.
- С какой стати, Александр Трифонович?! Я люблю
вашу поэзию, она проникает в самую суть жизни,
облегчает ее. А льстят ведь тем, кого боятся,
либо от кого что-то ждут.
Твардовский смотрел долгим изучающим взглядом, и
мне неловко стало, что я, вроде, говорю ему
легкомысленные пустяки. Помолчав, он спросил:
- Что же вы читали собранию из поэмы «За далью -
даль»?
- Наизусть прочитал главу «Так это было».
Комментариев не потребовалось...
- Так-таки и наизусть, - опять усомнился он.
Может показаться нелепым, в моем положении мало
знакомого, читать его же стихи поэту, у которого
едва отхлынула душевная натянутость. Но я уже
«соскочил с прикола» и больше опасался
показаться ему обманщиком, чем смешным. Начав на
память со слов: «Когда кремлевскими стенами
живой от жизни огражден...», - я прочитал
несколько отрывков из этой главы, высказал свое
их восприятие. Не рассчитывал растрогать автора,
а рад был выразить ему свое восхищение.
Показалось, что Александр Трифонович был
взволнован. Думаю, что он не ожидал от своего
попутчика такого разговора.
Вдруг он спросил, как я воспринимаю строки:
«Москва высотная вставала, как некий странный
павильон», а так-же строфу: «И мы бы даром
только стали мир уверять в иные дни...»? Я
сказал, что не могу себе представить Сталина
«без нашей стали» и «нашей дали», преображенной
за время пройденных пятилеток. Твардовский не
выразил своего отношения к ответу.
Сколь мы ехали, он не отрывал взгляда от полей,
перелесков и деревень. А проезжал он тут не в
первый раз. Проезжая мимо архиповского моста, я
заметил, что летом 1942 года принимал участие в
подрыве его. Увидев валяющиеся в траве
железобетонные обломки, Твардовский
поинтересовался:
- Это следы вашей работы?
- Следов нашей «работы» не осталось. У немцев
здесь был временный мост, деревянный. На него
нам хватило сорока килограммов тола, а обломки -
это дело рук наших саперов при отступлении 1941
года.
Он все более втягивался в разговор; спросил,
много ли мы теряли своих людей.
- В этой операции у нас погибло двое хороших
ребят - Федор Черняк и Иван Нагаев. Вынесли их
из боя и километров двадцать несли на себе,
чтобы похоронить с почестями в деревне Иньково,
где стояла наша партизанская рота.
- Как велики были общие у партизан потери? И
кстати: что ж вы всех погибших товарищей помните
поименно? - допытывался мой совсем оживившийся
собеседник.
Я ответил, что потери у разных отрядов разные.
Имелись случаи, когда небольшие партизанские
отряды полностью погибали в боях: например,
отряд Семлевского райкома партии. Другие в тылу
недолго находились, иногда не проявляли особой
активности. Такие не имели значительных потерь,
либо не несли их вообще. В целом, партизаны
Смоленщины потеряли одну треть своего состава,
хотя подразделение, которым мне довелось
командовать, понесло их значительно больше.
Почти за три года борьбы в тылу врага они
приближались к полуторному составу средней
численности.
- Мне пришлось хоронить двух комбатов, своих
предшественников, восемь командиров рот и свыше
двух десятков командиров взводов... Что касается
памяти о многих погибших и живых однополчанах, в
ней все больше размываются имена; но тех, кого
приходилось хоронить лично - помню; со многими
живыми связан перепиской, иногда проводим
встречи.
Твардовский поинтересовался, было ли правилом,
что товарищей не оставляли на поле боя, даже
убитых, и так далеко на себе несли их тела?
Припомнил ему примеры, когда нам по суткам и
больше приходилось по Краснинскому и
Монастырщинскому районам возить павших в бою
потому, что противник буквально сидел на плечах,
а «прикопать» боевых друзей, где и как попало,
мы не могли себе позволить. В этом состоял
огромный, иногда даже не всеми партизанскими
деятелями осмысленный до сих пор фактор.
- Гришин был молод, но в силу ли природного
гуманизма или интуиции партизанского вожака, он
эту задачу проводил с жесткой
последовательностью. Бойцы и командиры
соединения знали, что при самых трудных
обстоятельствах они не будут брошены на муки или
поругание врагу. Этот нравственный принцип был
одной из причин успеха в боях его формирования,
- сказал я.
Твардовский провел рукой по лицу, задумался, а
потом, вроде про себя, сказал:
- Так много мы еще не знаем о войне.
Он молча сидел до деревни Белей, а я думал: если
Твардовский так заявляет, то что же мы-то о ней
знаем! У этой деревни он попросил остановиться.
Свернули на обочину и вышли из машины.
- Когда приезжаю к брату - вечерком заходят его
односельчане, интересный народ, рабочие совхоза.
Какой же разговор у русских людей без рюмки
водки!..
Шофер Михаил Семченков последовал за Твардовским
в стоящий у дороги магазин, и вскоре нес перед
собой в ящике сколько-то бутылок горилки. До
Лонницы оставалось недалеко и мне показалось
удобным сказать поэту, с какой главным образом
целью «навязался ему в попутчики». Он, шутя,
ответил, что я спутал, кто из нас попутчик.
Просьбу мою «о литературной основе к памятнику в
Смоленске» и о том, что по этому поводу мне
поручено от имени секретариата послать ему
письмо, он выслушал внимательно. Но когда я
сказал, что теперь отпадает надобность в
«бюрократической переписке», он рекомендовал
обратиться с ним к другому земляку смолян - Льву
Кербелю.
- Кербель - это другое дело, его вечный солдат
слабоват для Смоленщины, - сказал я с грустью.
- Это очень серьезный вопрос. Кербелю он ближе,
но вы, видимо, правы: писателям Смоленщины тут
есть над чем подумать. А в угоду «маленькому
бюрократизму», вы мне все же пришлите для памяти
несколько строк...
Еще при нашем с ним выходе из приемной первого
секретаря обкома, пока Твардовский и Рыленков
спускались на лифте, я успел заскочить к себе в
кабинет и захватить с собой давно подготовленное
вчерне письмо Твардовскому. Теперь я достал его
из кармана и, извинившись за погрешности стиля и
помарки, передал ему.
- Ничего, все по-русски, - посмотрев на
машинопись, сказал Александр Трифонович.
- Но, вот что, Николай Иванович, я вас никуда
сегодня не отпущу. Познакомлю с братом и его
женой - они вам понравятся. Посидим вечерок с
мужиками, вам это тоже будет полезно, не все же
встречаться с ними только на собраниях...
Внезапное приглашение захватило меня врасплох.
Рабочие обязанности не позволяли не явиться
туда, где будут собраны люди по моей же просьбе.
Я поблагодарил Твардовского, сказал, что с
Константином Трифоновичем давно познакомились в
кузнице, встречались в Красном, а разделить с
ними вечер хотел бы, но, к сожалению, не могу.
На окраине деревни я попросил остановить
автомашину, чтобы попрощаться. Александр
Трифонович долго не подавал руки, советовал
позвонить в Красный из конторы совхоза,
предупредить, что не смогу приехать. Кажется,
непритворно обидевшись, он протянул все же руку.
- Жаль! Хотел поближе с вами познакомиться;
кажется, Рыленков прав, нам было бы, о чем с
вами поговорить...
Я еще раз попросил прощения, вышел из машины и
направился к стоящей на отлете совхозной
мастерской. Машина с поэтом пошла в деревню.
Больше мне уже ни разу не довелось встретить
Александра Трифоновича Твардовского. Но сколько
раз после, и до сих пор, казню себя. Не то,
чтобы неотложные дела, а проклятая застенчивость
лишила меня возможности провести вечер в
обществе великого русского поэта. Просто бы тихо
посидеть, послушать его беседу с мужиками, а,
возможно, спеть что-нибудь старинное, русское.
Позже я прочитал в его воспоминаниях слова,
вырвавшиеся по сходному случаю: «И мне так жаль
теперь, спустя столько времени, жаль, что я
отказался, как будто я тогда заодно отказался от
многого-многого, что кажется теперь таким
дорогим и невозвратным...»
1971- 1972 гг.
г. Смоленск
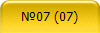 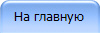
|
|