|
Олегу Владимировичу Молоткову
на днях исполняется семьдесят. Сразу оговорюсь,
о Молоткове услышал впервые не как о заведующем
кафедрой патофизиологии Смоленской медицинской
академии, профессоре и докторе медицинских наук,
а как о председателе возрождающегося земского
движения. Хотя не знаю как у кого, а у меня
дореволюционное земство как-то прежде всего
ассоциируется именно с врачами. Чехов
вспоминается, его дом в Мелихове, где он больных
принимал, булгаковское «Полотенце с петухами».
Они и в самом деле рядом – врачебная клятва
Гиппократа и земская идея служения народу,
делания добра, оказания помощи тем, кто
бедствует. Как-то светлеет на душе при одной
мысли о сотнях земских школ и больниц на той же
Смоленщине, построенных на общественные деньги,
на пожертвования. О тех замечательных русских
интеллигентах, которые бросали налаженный
городской быт и ехали в несусветную глухомань –
учить и лечить, сеять разумное, доброе, вечное.
И вот в тяжелейшее для России время, в середине
90-х годов у нас вновь заговорили о земстве –
нашлись люди.
Может, поэтому сразу согласился на предложение
редактора «Смоленска» взять «юбилейное» интервью
у Олега Владимировича. С тем и отправился на
кафедру с малопонятным для меня названием,
которую С.В. Молотков возглавляет вот уже 35
лет.
- Олег Владимирович, вы коренной смолянин?
- Да, родился в Смоленске в 1939 году. Во время
войны с сестрой и матерью были в эвакуации в
Кировской области. В 1944 вернулись сюда. Такая
деревня есть недалеко от Талашкина – Дрожжино.
Мать работала там главврачом больницы. Я ходил в
Талашкинскую школу. Сейчас и вспоминаю, и
рассказываю, как мы сбивали фрески с
Тенишевского дома (Флёново). Вот этот знаменитый
Спас. Идиоты, конечно, были. Но тогда религия
опиумом считалась, вредной вещью. Вот мы и
боролись. На забавы наши смотрели сквозь пальцы.
Склад там был, по-моему, каких-то химических
препаратов.
А со второго класса уже мы были в Смоленске.
Отец заведовал кафедрой патологической анатомии,
я учился и закончил седьмую школу – нынешнюю
гимназию. Потом пытался поступить в
физико-технический институт. Был завзятым
радиолюбителем. И до сих пор у меня есть
радиопередатчик, свой позывной...
- То есть пытались выбиться из семейной колеи?
- Да, и это увлечение осталось – работаю в
эфире. Знаете, и там мне очень интересно, и
здесь. До сих пор всякие работы руками делаю –
паяю, собираю схемы и проч. Просто интересно.
Уже лет десять, как собрал собственного
изобретения систему видеонаблюдения. Зачем
спрашивать: кто там. Позвонили – у меня
телевизор загорелся, всё видно. Очень удобно.
Сейчас уже в продаже такие системы появились. А
то я предлагал: давайте, буду делать, деньги
зарабатывать.
Но с физтехом не получилось, и поступил в 1956
году сюда, в мединститут, закончил с отличием,
женился на последнем курсе. Потом поехали в
аспирантуру поступать. Но тяжело было. Такое
время, когда считалось, что профессорские дети –
это какие-то стиляги, избалованные, морально
неустойчивые. В общем, волна была такая, что
никаких там дальше аспирантур – иди работай.
Хоть и жена тоже с отличием закончила, нас
распределили в Тульскую область. Хорошо, был
ректором Георгий Михайлович Стариков – мудрый,
умный мужик. Он сумел нас отстоять на заседаниях
парткома и проч. У нас даже запись такая была:
мы едем туда работать, но с разрешением всё-таки
сдать экзамен. Мы экзамены сдали, проработали в
Тульской области два месяца всего, оттуда нас не
отпускали... Не знаю, мне так кажется, что я и
врачом был бы неплохим. Потому что с людьми
всегда любил работать, так оно осталось и
сейчас...
- Вы хирург?
- Нет, я терапевт по медицинской специальности.
Хотя хотел быть хирургом и, может, стал бы.
Но... Мы студентов абсолютно неправильно учим.
Подход какой-то странный. До третьего курса
никогда с больными дела не имеешь. На третьем
курсе приходишь на специализацию. Вот так пришли
мы на хирургию, и наш куратор, ассистент,
который вёл группу, решил нам показать
хирургическое отделение. Хорошая мысль, правда?
Но первое, куда он нас привёл, в палату на
одного человека. Ещё на подходе почувствовал
неприятный запах... До сих пор в памяти. Лежит
мужчина, над ним всё закрыто простынями. Наш
наставник всё это распахивает – а там половина
тела (ноги и выше) сине-зелёное мясо гниющее.
Девчонки все – в обморок, мне тоже чуть плохо не
стало. На этом мои, да и не только мои, мысли о
хирургии кончились. До этого мы бредили все
хирургией. А тут... Один человек только из
группы стал хирургом, и то в травматологию
пошёл. Хотя пацанов нас было 12 человек, и все,
как один, друг перед другом: а-я-яй...
Так нельзя делать. Ну, как на анатомии: тебе ж
не принесли сразу труп. Сначала косточку дадут
посмотреть, фалангу. Человек постепенно
привыкает. До трупа, положим, полгода проходит.
А если вот так сразу тебя в анатомичку... Ну,
как в армии. Тоже ведь неправильно, если тебе
сразу винтовку в руки – и в бой. Бывало такое от
безвыходности. А здесь... Профессия врача –
очень сложная профессия.
Постепенно заинтересовался патофизиологией.
После фиаско с хирургией больше ни на чём не
хотелось задерживаться. Вообще, даже уходить
хотел одно время. Но увлёкся теорией,
аспирантуру по патофизиологии закончил. А потом
долго пришлось другими вещами заниматься. И
только в 1974 году стал заведующим кафедрой
патофизиологии.
- Но вы ещё и до этого в медакадемии работали.
Стаж солидный, есть с чем сравнивать. Конкурс по
сравнению с прошлыми временами уменьшился?
- Конечно. Потому что народу становится меньше.
Тем не менее, насколько знаю из сообщений
ректора на учёном совете, проблем с набором пока
нет. Хотя говорилось и о том, что они могут
возникнуть. Сейчас у нас очень своеобразная
ситуация в стране. Чуть ли не каждый губернатор
рассуждает примерно таким образом: зачем нам
посылать выпускников в Смоленскую академию – мы
у себя можем организовать. Вот и организуют. В
результате толком ни там подготовки нет, ни по
крупным центрам.
- Много обид сейчас и скандалов, связанных с
неквалифицированной медпомощью.
- Откуда возьмётся квалифицированная, если у нас
создаются упомянутые так называемые учебные
заведения. Это не вузы – это пародия.
Организовать настоящий медицинский вуз крайне
тяжело. Скажем, Мажар, с которым я дружу,
организовал гуманитарный университет. Но там
проще. Компьютеры, библиотека, кадров достаточно
педвуз наготовил. А у нас? Вы посмотрите, какая
база у нас по всему городу. И без неё ничего не
сделаешь. Если брать нашу кафедру – это
животные, экспериментальные животные. Их, кроме
всего прочего, и кормить нужно. Да с теми же
лягушками сколько возни, чтобы студенты своими
руками могли поработать. Потом анатомичка.
Практика постоянная нужна. А так – профанация.
Перепроизводство так называемых дипломированных
специалистов. Как с теми же менеджерами и
юристами. А что за юрист, который купил диплом,
не посещая занятий?
У меня есть одна семья хороших знакомых,
переехавших к нам из другого региона. Муж –
кандидат наук, доцент – поступил в один из
частных вузов. Вскоре пришёл ко мне сюда с
квадратными глазами: «Олег, что мне делать»? Что
случилось? Оказывается, у него были студенты,
которые весь год на занятия не ходили. Вызвал
его директор и говорит: всем ставь не меньше
«четвёрки». Как ставить, если они в группе
только числились и преподаватель их не видел ни
разу! «Не могу», - говорит мой знакомый. И
директор тут же: «Не можешь – уходи».
- Как пришли к земскому движению?
- В принципе, всё началось с того, что Советский
Союз распался. Все переживали. Не знаю, как вы,
а я скептически относился к той власти. Хотя
состоял в КПСС, точнее, вступил в КПСС, потому
что деваться было некуда. Это и карьерный рост,
и работа. По-другому нельзя было в то время.
Хотя мы все понимали, что всё это задавлено,
задушено, формализовано. И равенства толком не
было. Вот я охотник, например, и видел, как
охотились многие наши видные люди, как нам вдруг
ни с того ни с сего закрывали наши угодья.
Выставляли охрану и говорили: «Вам сегодня
нельзя. И завтра тоже». Почему? У нас
разрешение. А вот первый или второй секретарь
райкома охотятся, не говорю уж про обком.
То есть я хочу сказать, что искренне радовался,
когда Ельцин приходил к власти под лозунгами
борьбы с коррупцией, борьбы с аппаратчиками.
Такой был яркий, видный, гонял московских
коммунистов – и мы радовались. А кончилось чем?
Одно-другое, СССР развалили. Потом выяснилось,
что плох был не только коммунистический режим,
плохим оказалось вообще всё русское. Вот у нас
диплом есть по земскому движению к 200-летию
Пушкина. Если помните тот период, то мы его
получили за то, что были одними из немногих, кто
встал на защиту, чтобы Пушкина с грязью не
смешали. Ведь всё затоптали, смеялись,
издевались надо всем. Ничего святого. И вот
возникло земское движение в России. Как реакция
на подобное глумление, чтобы Россия сохранилась.
В него вошли очень многие видные люди. Кстати,
наш митрополит, теперь патриарх, Кирилл был
одним из основателей российского земского
движения. А до нас эти веяния дошли в 1994 году.
Профессор Сильницкий (он работает в Смоленском
университете) получил кое-какие документы и
предложил: давайте попробуем у себя земство
учредить. Человек шестьдесят на учредительное
собрание пришло. Много было шума, споров. В
конце концов, избрали меня председателем, причём
единогласно. И вот уже пятнадцать лет руковожу.
А идея была очень простая: сохранить то, что
есть российского – культуру, традиции
национальные, религию, если угодно. Я глубоко
убеждён, что без православия Россия вообще бы
развалилась. Это точно. Сейчас часто приходится
слышать: вот, мол, священнослужители живут не
так, как надо, наживаются и проч. А задайте
другой вопрос: а не было бы церкви? И ничего не
было бы. Какая-то генетическая наша память
сработала в этих тяжелейших условиях. И мы, без
ложной скромности, немало сделали. Причём,
конкретно можно говорить о наших делах.
Вот у меня сейчас есть очень хорошая аспирантка
– умная, толковая. А ведь я её буквально вытащил
из школы Новодугинского района. Была в своё
время у нас такая программа, принятая земским
движением. Её поддержала и администрация
области. Прохоров тогда был губернатором. Мы
собрали большую комиссию из учёных разных
направлений, команду, можно сказать. И ездили по
районам с анкетированием. Ставили задачу перед
директорами сельских школ: кто у вас выделяется
по знаниям, умениям. Нам называли человек
десять-пятнадцать, мы их тестировали и обычно
двух-трёх отбирали. Потом добивались, чтобы они
прошли здесь курсы. Тогда денег ни у кого не
было – администрация пошла на то, что оплачивала
им проживание в лагерях и т.п. Затем мы писали
официально письма в администрацию, вузы.
Педуниверситет, например, нам сразу навстречу
пошёл. Чтобы при всех прочих равных условиях всё
же отдавали бы предпочтение ученикам из села. И
мы, надо сказать, так достаточно много людей
устроили. Думаю, человек тридцать наберётся.
То есть вот главная цель – помогать людям, когда
им тяжело. Несколько лет мы по минимальной цене
семена раздавали. К нам очереди какие
выстраивались! Это ж 90-е годы, когда вообще
ничего не было. Помню, картошку сажали с
сыновьями. У нас был участок шесть или семь
соток. Просто жить иначе было нельзя. И семена
купить нереально было. Несколько лет раздавали.
У меня даже фото осталось. Мы с митрополитом и
Глушенковым среди пенсионеров.
Или наш кадетский корпус. Как-то принято сейчас
говорить, что организовала его администрация.
Да, организовала. Но кто пробивал? Кто вообще
эту мысль, безумную для той поры, высказал? Нас
же просто слушать поначалу не хотели. А мы
видели, как ребята просто пропадают: отцы
спились, матери бросили. И никому не нужны эти
ребята. Вот и возникла идея кадетского корпуса.
Почему именно кадетского? Потому, что военные
смогут этих ребят взять в руки и будут их
держать. Год пробивали. Ходили по всем
начальникам в образовании, подобрали кандидатуру
будущего директора. Мы славы не ищем, но это
полностью наше дело. Мы разработали план, нашли,
откуда списать устав, нашли выход на Минобороны
и т.д. Это всё было.
Народный Собор – тоже наша идея. Организаторы –
митрополит Кирилл, Прохоров и земское движение.
Это наша работа была. Мы составляли планы,
проекты, уставы.
- Сейчас о Народном Соборе стали уже забывать,
давненько он не собирался.
- Ну, не то чтоб давненько – два года. Сейчас,
может, у губернатора более важные заботы есть.
Да и митрополит Кирилл уехал от нас. С одной
стороны, конечно, мы можем гордиться, радуемся,
что во главе Церкви стал такой человек, патриот.
С другой стороны, это большая потеря для смолян.
Уже ощущается его отсутствие. Это очень мощная
фигура. Он очень много делал. Человек знал, чего
хотел. И спокойно шёл к поставленным задачам.
Мне такие люди всегда импонируют. Были у него
ошибки или нет – это другой разговор. Но
последние лет десять мы были достаточно близки.
Не столько, может, я лично, сколько земское
движение. Мы в год постоянно больше десятка раз
встречались и откровенно обсуждали многие
вопросы. В одну из первых встреч он сказал
фразу, над которой я сначала как-то особенно и
не задумался. Мол, безгрешных людей не бывает на
свете. И сказать, что я безгрешен – это самый
большой грех. Для меня с годами это всё
значительнее. Это я к тому, что Кирилла обвиняли
и обвиняют во всех смертных грехах. И такой, и
сякой. И вот он говорит: да, грешен, жили и
выживали, как могли. Главное, чтоб не пристало к
самому дурное. У меня нет сомнений – это
колоссальная личность. Это и на последнем
Всемирном соборе особенно уже ясно стало (а я
только в первых двух таких соборах не
участвовал, и выступать доводилось).
- Олег Владимирович, каким-то образом вы
отслеживаете ситуацию в смоленской глубинке, на
селе, где люди просто спиваются, вымирают, бегут
оттуда, кто ещё может? Там страшные дела
творятся.
- Земское движение проводило анкетирование
молодёжи лет десять назад. Большой был охват.
Докладывали о результатах на конференции в
пединституте. О важности вопроса говорит хотя бы
тот факт, что присутствовали на ней и митрополит
Кирилл, и губернатор. И вот у школьников
интересовались, как нравственность,
самочувствие, каковы их идеалы, стремления, как
в семье обстоят дела. Это был 96-97 год. И тогда
нас очень обрадовало, что молодёжь патриотически
настроена: слушать нашу музыку, жить в России и
проч. Затем такое же анкетирование провели в
2002 году. И ужаснулись. То есть молодёжь уже
начала говорить: «Да ну, патриотизм – это
глупость. Надо жить там, где можно жить. Родина,
где тепло и хорошо. Главное, побольше денег
любым способом. Друзья – это всё ерунда». То
есть мы просто ужаснулись.
В этом году мы проводим ещё одно анкетирование.
Хотим разобраться, понять тенденцию. Кое-куда я
уже отправил анкеты. Но будем опять-таки широко
охватывать. И глубинку в том числе – районов
пять-семь возьмём.
- Мне запомнилось ваше выступление на круглом
столе, который проводил губернатор Маслов с
представителями общественных организаций. В
частности, губернатор высказал дикую, на мой
взгляд, идею об усилении каких-то узловых
медицинских центров. Например, в Вязьме сделать
всё от и до, и из всех окружающих районов туда
больных доставлять. Дескать, районные больницы
(уже о фельдшерско-акушерских пунктах в деревнях
даже не вспоминают) у нас слабые, никто там
работать не хочет. Вот такой виделся выход. Как
сейчас обстоят дела с медобслуживанием на селе?
- Если официально, то всё очень хорошо. Всё
идёт, развивается. Мы с удовольствием про это
слушаем. Говорят, начинает расти
продолжительность жизни. А если брать
реальность... Вот свежий пример: вчера в десять
часов мне знакомые из Талашкина звонят – инфаркт
миокарда, человеку под восемьдесят. Пока
«скорая» туда приехала – повторный инфаркт, надо
срочно в больницу. «Скорая» говорит: можем
отвезти только в Стабну – так положено.
Представляете? Из Талашкина – в Стабну! Вот
знакомый просит: помогите хоть куда-нибудь в
Смоленске, не доедет же, еле живой. Договорился
в «Красный крест». Но столько времени, пока
туда-сюда. Потом мне из больницы звонят: что-то
не везут вашего больного. Уточняю у
родственников: не довезли – умер.
Запад считает: чтобы чего-то достичь, если у
человека сердце, «скорая» должна быть в пределах
пяти минут. Причём «скорая» у них не только
медицинская машина – пожарные могут быть,
полиция, но обязаны появиться, доставить и проч.
Вот у нас всё-таки немаленький город, но даже в
пригородах наших уже ничего нет. Я под Касплей
часто бываю, на охоту езжу. Была там в своё
время хорошая больница. Сейчас практически
ничего. Вот, говорят, в Стабне у нас центр,
оттуда «скорая» должна приезжать. Ничего себе! В
самом лучшем случае сорок минут.
Вы знаете, меня просто бесят все эти разговоры о
достигнутом прогрессе и планы, которые сейчас
появляются. Собираюсь на конференции об этом
говорить. Придумали построить вдоль трассы
классные больницы. Чтобы уменьшить травматизм и
проч. Ну что за бред? Кто думает, что с помощью
этого мы улучшим состояние здоровья людей? И
какие огромные деньги вкладываются. Ну, спасём,
может быть, несколько автомобилистов.
- А в том же селе, случись что, человек обречён,
получается?
- Именно так.
- Вспоминаю классику – Чехова, Булгакова,
Вересаева. Как в своё время вот эти интеллигенты
работали в деревнях, к людям шли...
- Тогда идеология была другая – помогать
ближнему, служить народу. На свои деньги строили
школы, больницы. Бросали благоустроенную жизнь в
городах, шли в народ. Интеллигентнейшие люди.
Вот идея земства. А сейчас... Мне хорошо, а
остальные – как угодно. Это официальная
идеология. Не знаю, как вы, но я не смотрю
сейчас телевизор – не могу. Самая поганая
программа сейчас – первая. И везде она идёт.
Есть, конечно, и похлеще, но эта – у всех.
Приезжаешь куда-то в район – два канала. И что
люди смотрят? Ха-ха-ха, трали-вали – больше
ничего. Двадцать человек, которые пляшут,
глумятся и делают всю погоду на ТВ. Что люди
видят? Ладно, взрослые. А пацаны, которые
наблюдают и слушают, что, к примеру, «голубым»
быть классно. Или наркотики... Подумаешь, я уже
бросил, и мне тыщу лет они уже ехали-болели. Но
кто и где скажет – дошёл до героина – смерть.
Ничто и никто уже не поможет. Никакие деньги не
помогут.
Вот и держимся, земское движение, изо всех сил.
Хотя считают, что сейчас оно уже менее
актуально. В самом деле, раньше говорить о
русском было дурным тоном. Вообще, как
ругательное слово. Но сейчас и президент и
правительство о патриотизме вспомнили и говорят.
Это уже что-то. Другое дело, что пока бал правят
не самые достойные люди. Может, кризис, как
пишут, разметёт многих и наступит какое-то
просветление ума.
В своё время я руководил и местным отделением
народной партии. Сходная с земской программа.
Нужно было что-то противопоставить
проамериканской идеологии. Пытались что-то
сделать. Пять лет держались, пока кислород не
перекрыли. Сейчас вхожу в региональный комитет
«Справедливой России». Считаю, нельзя в стороне
оставаться от того, что происходит.
- Как оцениваете перспективы России, Смоленщины
в ближайшем и более отдалённом будущем?
- Это, наверное, президенту такие вопросы надо
задавать. Но, со своей стороны, я не вижу пока
каких-то жёстких и необходимых движений. Я
студентам обычно рассказываю, что когда
Буш-младший пришёл к власти, один из первых
указов был: в армии США запрещено курение, иначе
штраф в пять тысяч долларов. Сначала об этом у
нас писали, потом резко забыли. Это высшее
должностное лицо высказалось. А у нас: давайте
бросим курить, давайте то, другое. Указ –
запрещено курить! Вот такого я не вижу у нас.
Ладно, демократия, но если, допустим, в школе я
увижу ученика с бутылкой пьяного, директора
школы тут же не будет. Я вам даю слово:
прекратилось бы это безобразие, в момент. То же
самое с куревом. Но у нас нет этого. У меня внук
заканчивал школу, пришёл с выпускного и говорит:
«Я тебе, дедушка, подробности рассказывать не
буду. Но перепились там все. Хорошо, директор
рано ушёл и не видел». Мудро поступил. Но это не
выход. Нужна жёсткая позиция, а не стоны о том,
как молодёжь пропадает. Последовательная
политика нужна.
Вот прочитал, что во Франции бум рождаемости.
Казалось бы, развитая европейская страна, и
такого быть не должно. А что сделали? Никакого
материнского капитала. Беременную женщину
освобождают от работы на два года с сохранением
зарплаты. Детский сад – бесплатно. И прочие
льготы – питание, проезд. Вот и бум. А мы
материнский капитал крутим в банках, наживаемся.
- Спасибо за интервью, Олег Владимирович.
Примите наши поздравления с юбилеем и пожелания
успехов в вашем служении России.
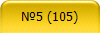 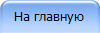
|
|