|
Что бы там ни говорили, но,
пожалуй, мало кто из нас вполне равнодушен к
магии чисел, и к числу «13», например, мы
определенно пристрастны, даже если
демонстративно не желаем признавать его зловещей
ауры. Тем не менее, именно на 13 мая в Москве
было назначено первое заседание российского
оргкомитета по подготовке к 100-летию А.Т.
Твардовского. А накануне Госдума утвердила новый
состав кабинета министров, в который не вошел
председатель оргкомитета А.С. Соколов.
Председательствовал на первом заседании
замминистра культуры, но, естественно, и над
ним, и над некоторыми другими членами,
включенными в оргкомитет в силу занимаемых ими
должностей, ощутимо тяготела ноша
неопределенности их нынешнего положения. У
большинства присутствовавших на заседании
сложилось впечатление, что, например, упреки
смоленского губернатора С.В. Антуфьева по поводу
бездеятельности Москвы и Центра в плане
подготовки к юбилею великого поэта пропали
втуне.
Трудно предположить, чего ждать россиянам от
нового министра культуры, но, в любом случае,
смоляне оказались в проигрыше, лишившись
поддержки человека, которого считали земляком –
по деду-писателю, одному из немногих близких,
задушевных друзей Александра Трифоновича. Пусть
невелики были финансовые возможности
министерства культуры, но Александр Сергеевич
Соколов всегда откликался на инициативы смолян,
собирался приехать на Твардовские чтения,
которые вот уже три года проводятся в Смоленске,
поддержал личным участием в редакционном совете
новый литературно-краеведческий журнал
«Смоленская дорога». Помню, как год назад на
открытии дома-музея И.С. Соколова-Микитова в
Угранском районе министр говорил, что достойную
встречу 100-летия Твардовского считает личным
своим долгом и оставшегося времени вполне
достаточно. Как говорится, человек предполагает…
Тогда до юбилея оставалось три года, теперь –
только два. Вышел долгожданный Указ Президента о
Всероссийском праздновании 100-летия, создан
оргкомитет, но… Собственно, ни один практический
вопрос не был решен кардинально на первом
заседании, а когда будет второе, бог весть. Из
информационных сообщений можно было понять одно:
принято решение, что центром празднования в 2010
году станет «хутор Загорье» - малая родина
поэта, где вот уже двадцать лет ежегодно
отмечается день его рождения, и мало кто думал,
что 100-летний юбилей станет исключением…
Так вот, что касается Загорья. Местность эта
ныне совершенно обезлюдела, страшные следы
оставил здесь организованный развал села и
коллективного уклада деревенской жизни.
Многострадальная земля. И вот этот клочок бывшей
(да и нынешней!) пустоши с восстановленной
«усадьбой» Твардовских – как некий символ, при
соприкосновении с которым больно и сладко
сжимается сердце.
… А, может, и хорошо, что здесь так безлюдно и
развалено кругом, что даже не пахнет
«цивилизацией» с её шумом и смрадом, с
опостылевшим «сервисом» - на десятки верст не
пахнет. Эта крамольная мысль пришла в голову,
когда на вторые Чтения (19 декабря) приехали
сюда с небольшой делегацией из московской школы
им. Твардовского. То есть 18 декабря, в день
смерти А.Т., смоляне побывали на Новодевичьем и
в гостях у московской школы, где свято берегут
память о поэте. Из Москвы (с представителями
школы) отправились под вечер, томительно долго
ехали через весь город в плотном потоке машин
(больше стояли), наблюдая новомодные высотные
коробки, расцвеченные рекламой. Людей на улицах
совсем не было видно. Только машины, асфальт,
бетон, пластик – всё неживое, холодное. Через
час ничего не осталось во всём моем организме,
кроме почти панического стремления – вырваться
отсюда (хоть из автобуса, застрявшего в
очередной пробке, выскакивай) на простор
«Москва-минки», где, сколько достанет глаз, поля
да перелески вокруг.
В Смоленск мы приехали тогда поздно ночью,
москвичей оставили на Сокольей Горе, а утром я
уже заехал за ними на микроавтобусе, чтобы ехать
в Загорье-Починок. День был пасмурный, в меру
прохладный. Когда приехали на «хутор», пошел
легкий снежок. Была совершенно изумительная
тишина. И хуторские постройки среди берез и
ёлок… Одни под этим невысоким небом, будто во
всём мире одни. И нас – десяток человек, на всё
про всё. Я вдруг увидел это глазами московских
старшеклассников, живущих всё время там, и,
кажется, понял, чего не мог понять на устроенном
ими литературном вечере, - какая отдушина, какой
мостик для них – в живую жизнь, в Россию –
Твардовский! Я почувствовал… И до сих пор с тем
же чувством раскрываю изданную в 279-й
московской школе «Твою первую книжку» со стихами
А.Т. и ученическими рисунками к ним. Она
начинается с Загорья, и, кажется, красной нитью
через всё содержание идет родной хутор поэта.
На хуторском глухом подворье
В тени прокуренных берез
Стояла кузница в Загорье,
И я при ней с рожденья рос…
Это из «За далью – даль». А вот классическое
стихотворение, которое у меня в памяти рядом с
пушкинским «Вновь я посетил…», - «На хуторе
Загорье». Только концовку процитирую – под то
настроение:
… На хутор свой Загорье –
Второй у батьки сын –
На старое подворье
Пришел, стою один.
Стою во ржи молочной,
И так далек, далек
Глухой, чудной, нарочный
Наш хутор-хуторок.
Сошло, прошло, забыто,
Давно, как пыль дождем,
К земле сырой прибито,
Пластом земли покрыто,
И дымным цветом жито
Цветет на месте том.
Еще до войны, в 1939 году, написано. Теперь
житом тут и не пахнет, зато «глухой, чудной,
нарочный хутор-хуторок» стоит. И скепсиса у меня
тогда, что это, мол, сомнительный новострой и
декорация, поубавилось. А то откуда б они, эти
юные москвичи, узнали? Вот так – в хату, в
баньку заглянули, ворот колодезный покрутили,
воды нехлорированной хлебнули. «Вкусная!» -
смеются. Ещё бы – здесь русский дух. Как в
стихах поэта, имя которого носит их школа. Чего
доброго их сверстники в столицах лучше
английский понимают, чем такие простенькие
строчки из «Твоей первой книжки», которую в
школе №279 дарят каждому первокласснику, и тот с
ней на уроки ходит до пятого класса (пока книгу
Твардовского, опять же изданную школой, потолще
и посерьезней не подарят):
День пригреет – возле дома
Пахнет позднею травой,
Яровой, сухой соломой
И картофельной ботвой.
И хотя земля устала,
Все еще добра, тепла:
Лен разостланный отава
У краев приподняла.
Но уже темнеют реки.
Тянет кверху дым костра.
Отошли грибы, орехи.
Смотришь, утром со двора
Скот не вышел. В поле пусто.
Белый утренник зернист.
И свежо, морозно, вкусно
Заскрипел капустный лист…
Жаль, «не на слуху» сегодня это стихотворение,
написанное тоже в 1939 году, и думаю, тоже
связанное с тогдашним наездом Твардовского на
сгинувшее родное подворье – всколыхнулась память
детства, которую называл А.Т. «золотым фондом
души». А без этого «фонда» какой же писатель?
Так Александр Трифонович считал, и не раз в
дневниках писал, что всё взял здесь, и не было
бы его как такового без «хутора Загорья».
Я не случайно здесь кавычки поставил.
Известнейший наш краевед В.Д. Савченков
постоянно напоминает, что на самом деле никакого
хутора Загорья не было, а по документам проходит
«хутор пустоши Столпово». Всё правильно.
Твардовский сам в «Автобиографии» употребляет
именно официальное наименование. Но о чём,
собственно, спорить, если Твардовские своё
«имение» называли Загорьем и в золотой фонд
мировой литературы вошло оно под этим именем (из
произведений, между прочим, самого Александра
Трифоновича). Это неотъемлемое право хозяев –
присваивать имена своим усадьбам (и на Западе
широко бытует эта практика даже для самой
крохотной фермы). Вот и едут люди на хутор
Загорье, а не на пустошь Столпово, о которой
мало кто знает. Может, потому что мы
собственноручно написанную нашим славным
земляком «Автобиографию» толком не читали. А
там, между прочим, всё есть, в том числе и
четкие формулировки по поводу социального
статуса семьи Трифона Гордеевича и отношений
Александра с родителями, о чем много горячих и
неправых суждений тиражируется по сей день, чаще
со ссылками на воспоминания брата поэта – Ивана
Трифоновича, реже – со ссылками на старшего
брата Константина или других родственников. Но
не лучше ли, говоря о Твардовском, обращаться
прежде всего к первоисточнику – его
произведениям и, в первую очередь, к
опубликованным в «Знамени» Рабочим тетрадям и
той же «Автобиографии»? В последней, безусловно,
поменьше «живописи», чем у братьев, но ведь и не
случайно. Приступив к подготовке своего
5-томного собрания сочинений, Александр
Трифонович 23 ноября 1958 года высказался в
дневнике как раз на эту тему и не стал включать
в известную нам «Автобиографию» некоторые уже
написанные «расширительные» фрагменты. Сегодня
уже мало кто помнит эту давнюю публикацию РТ,
подготовленную Марией Илларионовной, в журнале
«Знамя». Между тем, она проливает свет на многие
моменты, до сих пор вызывающие споры. Впрочем,
судите сами:
«… Стал было раздвигать Автобиографию, но теперь
вижу, что не стоит это делать. Или писать уже
вполне широко, или строго, без «экивоков», как и
написана эта моя Автобиография лет 10 назад.
Нужно сохранить в ней этот строгий стиль и план
документа, сделав, может быть, отдельные вставки
фактического порядка. А «живопись» — это уже
область «Пана Твардовского» или каких-нибудь
«автобиографических заметок»,
Заношу для сохранности эти не вошедшие в текст
«Автобио» вставки в тетрадь.
1. Эта шляпа и это эфемерное «панство» дорого
обошлись отцу в условиях нашей местности, в
тридцатом году. Правда, еще немалую роль тут
могла сыграть почти новая пятистенка (упорно
братья поэта отрицали пятистенку – вопрос: какой
дом (а это не пятистенка) стоит сегодня в
Загорье под данным приезжими знаменитостями
наименованием «музей раскулаченной избы». –
П.П.), которую отец незадолго перед тем (30 г.)
купил за полцены у одного зажиточного соседа
(Роман Ив. Игнатенков), рано учуявшего приход
больших перемен жизни и покинувшего наши места
по собственной инициативе. Пятистенка была
поставлена на месте нашей старой «пуни» и
выглядела снаружи очень солидно, но за недолгое
время, сколько жила в ней наша семья, «освоена»
по-зимнему была только передняя половина с
обычной русской печью, а вторая, чистая, где
предполагалось быть голландке («зал»),
оставалась холодной и неотделанной. В этом новом
жилье я посетил в последний раз в родных местах
свою семью зимой тридцатого года, будучи уже
городским человеком, отрезанным ломтем. (Еще был
в 31 г. в канун выселения семьи, когда я еще
вернул им лошадь, взятую мной, помнится, с
холодного, забитого снегом двора дьякона
Ляховского, где она простояла суток трое
голодная).
К этому еще нужно добавить, что характер у отца
был малосимпатичный, заносчивый и нетерпимый в
отношении хуторян-соседей, которых он
подчеркнуто ставил ниже себя (не только по уму,
что само собой разумелось, но и по
благосостоянию, что было весьма условно).
Может быть, именно в силу этих черт своего
характера отец, как это ни странно, все
потрясения и испытания, выпавшие в последующие
годы на долю его и многочисленной семьи (кроме
меня), воспринимал с некоторым тщеславным
удовлетворением, видя, должно быть, в них уже
несомненное подтверждение того факта, что
он-таки действительно был «паном», или
«жителем», как у нас называли людей
определенного достатка.
2. Мать моя (здравствующая поныне) была почти во
всем полной противоположностью отцу — мягкой
души, дружелюбная и уступчивая, она всю жизнь с
болью переносила его жестковатую заносчивость и
тщеславие.
Смолоду она очень тосковала по своей родне,
дому, родным местам, которые представлялись ей
покинутыми где-то вдалеке, хотя находились в
каких-нибудь 10 — 12 верстах от этой «пустоши
Столпово». Происходя из крайне захудалой,
попросту омужичившейся, но все же дворянской
(«пушкарской», как у нас говорили) семьи, она
была совсем малограмотной, едва могла
расписаться, и, лишь как-то по нужде
подучившись, могла нацарапать немудрящее
письмецо отцу, мобилизованному в годы первой
мировой войны. («Триша кот»).
Но при всем том она, сколько я помню ее,
обладала редкостной восприимчивостью к тому, что
читалось из книг или рассказывалось, или пелось
в песнях. Сама она, когда была помоложе, очень
хорошо пела своим слабым голосом городские песни
из дореволюционных песенников, но с особенным
чувством те деревенские, бабьи и девичьи песни,
каких не было ни в одном песеннике.
В поле и дома, во всякой женской работе она, что
называется, не знала равных себе по чистоте,
быстроте и выносливости, хотя совсем не
отличалась здоровьем. Во всякой работе, говорила
она, нужно найти «ряд», «слой», а там она и
пойдет. — Эти ее слова я запомнил на всю жизнь.
Отец был, может быть, еще более зол и неутомим в
работе, работал он до ожесточения, будь то у
кузнечного горна или на раскорчевке ляда, в
косьбе и т. п., но тут главное было в
материальном расчете, корысти и опять-таки
тщеславии. Кроме того, эта работящесть была
неравномерной, порывистой. Он мог вдруг, в
разгар самой сезонной работы в кузнице или в
поле, уткнуться в книгу и, как выражалась мать,
«окаменеть» над ней на час, на два. — И книги,
не в упрек ей сказать, она недолюбливала, видя,
может быть, в них одну из тех неприятных черт,
которыми он как бы подчеркивал перед соседями и
родней, что он им не ровня.
3. «...но это были стихи, звучащие, как из
книги». Может быть, такому восприятию
способствовало еще и то, что стихи были
иллюстрированы собственноручным рисунком дяди
Коли, изображавшим «осень» и эти «голые сучья».
— Рисунок этот, пожалуй, самое первое мое
впечатление поразительной верности,
натуральности изображения. — Около этого времени
я нашел в кустах, в болоте огромную роскошную
книгу в красном переплете и с золотым обрезом.
Она была брошена там после погрома ближайшей
(Ляховской) барской усадьбы (осень, зиму она
пролежала в болоте, но, помнится, мало
деформировалась). Прочесть в ней я ничего не мог
— это была, как я сообразил много лет спустя,
вспоминая о ней, поэма Мильтона «Потерянный и
возвращенный рай» на французском языке, c
рисунками Доре. (Однако я тогда от отца, что ли,
знал, что это «Потерянный и возвращенный рай»
Мильтона). Впечатление от этих рисунков было
настолько сильным, что я с риском поломать себе
шею долго пробовал сбрасываться с балки сарая
(пуни) на сено вниз головой и развернув локти
врозь, как это делали черти, низвергаемые с неба
в преисподнюю. Однако мне до сих пор памятно
мучившее меня чувство неловкости и
неправильности того, как на одной из картинок
полуголый лысый старик (Ной на стройке ковчега)
что-то пилит обыкновенной одноручной пилой,
держа ее за верхний угол станка, т. е. так
неумело и неправильно, что он одного раза
двинуть этой пилой не мог бы.
4. «...и жалела меня». Это было с ее <матери>
стороны тем же примерно чувством, каким она
прониклась ко мне, когда я лет 10—11-ти стал
отличаться исключительной религиозностью и
однажды объявил в семье, что собираюсь посвятить
себя богу, т. е. пойти в попы или монахи. Отец,
кичившийся своим безбожием, отпустил по этому
поводу непристойную поговорку («был бы ты попом,
да голова у тебя кляпом» — кляп у нас — член).
Мать же приняла все всерьез и даже стала меня
исподволь прикармливать (насколько это было
возможно при такой куче детей) в предвидении
ожидавшей меня подвижнической жизни. Но
религиозный пыл, явившийся следствием чтения
каким-то путем попавших мне в руки изданий вроде
«Почаевского листка» и т. п., вскоре оставил
меня и сменился множеством других настроений и
мечтаний под воздействием опять же чтения,
неутолимой страсти моего отрочества. Чтение это
было фантастически беспорядочным: в 11 —12 лет я
читал «Братьев Карамазовых», а «Трех
мушкетеров», о которых знал из литературы же,
прочел уже где-то около сорока лет и т. п.».
Согласитесь, много интересных деталей в этих
«расширительных» фрагментах. Например, можно
понять, почему «пана» Трифона Гордеевича
Твардовского раскулачили. Заносчивость и
тщеславие настроили против него односельчан.
Между тем, по версии Константина, решение о
раскулачивании было ничем не мотивированным –
его симпатии полностью на стороне отца. Иван
старается быть более объективным, но о многих
событиях семейной истории пишет попросту с чужих
слов. Во-первых, по причине малолетства в
загорьевскую бытность А.Т. (он на четыре года
младше Александра и на шесть - Константина, в
детстве и юности разрыв огромный), во-вторых, с
17-18 лет он с семьёй не жил и с родственниками
общался считанные разы.
Существенны дополнения к портрету матери:
неожиданно, что представительница дворянского
рода была малограмотной и «недолюбливала» книги.
А разве вписывается в канонический образ поэта
его ранняя и пылкая религиозность, желание стать
священником? Но у всего свои причины и свои
следствия.
Александру Трифоновичу нынче исполнилось бы 98
лет. Недавно прочел в «Российской газете»
интервью с гроссмейстером Лилиенталем. Он
ровесник Твардовского, но до сих пор не считает
нужным отказываться даже от некоторых вредных
привычек (изредка покуривает, скучает по
советским папиросам). Пытаюсь представить, что
был бы жив сейчас Твардовский и давал интервью…
Нет, не могу. Полистал рассеянно томик давно
знакомых стихов и, как почти всегда бывает с
А.Т., сразу наткнулся на «второе дно», где
раньше просто взглядом скользил:
Просыпаюсь по-летнему
Ради доброго дня.
Только день всё заметнее
Отстаёт от меня…
Господи, это же 66-й год: всё заметнее «холода»
после «оттепели», всё глубже его конфликт и
расхождение с «генеральной линией» торможения.
А, может, придумываю на голом месте? Но вот чуть
дальше:
Медлит высветить мглистую
Дымку – сам не богат.
И со мною не выстоит,
Первым канет в закат.
Да, силы света тают, не выстоят они, оставят во
мраке человека, опередившего, переросшего своё
время. Позади для него самого расцвет веры, пик
её, а теперь дело к закату – закату эпохи, его
эпохи. И ему суждено пережить это? Потрясающа
концовка – всё по тогдашней ситуации, в
преддверии трагической «пражской весны» и гибели
«НМ»:
Приготовься заранее
До конца претерпеть
Все его отставания,
Что размечены впредь.
Нет, это никак не вписывается в раздел школьного
учебника «стихи о природе»! Всё он знал, всё
предчувствовал, и претерпел больше, чем дано
обычному человеку. Действительно, «до конца»…
 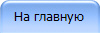
|
|