|
Вот и остались позади
очередные Дни памяти А.Т. Твардовского. Конечно,
уже не так остра боль потери для каждого
русского сердца, как 37 лет назад, 18-21
декабря, когда великая страна прощалась со своим
великим сыном. Но есть память, есть, уже можно
так сказать, традиция проведения в эти дни в
Смоленске Чтений в гостеприимном зале областной
библиотеки им. А.Т. Твардовского. О состоявшихся
IV Твардовских чтениях разговор у нас впереди, а
сейчас хотелось бы спросить: «Зачем?». Зачем мы
собираемся, зачем вся эта суета и т.д.?
Понимаю, что вопрос кому-то может показаться
неуместным, даже кощунственным. Но мне
приходилось его слышать неоднократно, и, каюсь,
самому себе задавать. Действительно, не так
много людей может собраться в читальном зале.
Действительно, далеко не все могут несколько
часов слушать выступления участников с
неиссякаемым интересом. Действительно, невелик
тираж наших сборников и прочих смоленских
изданий, посвящённых А.Т. А хлопот много. С теми
же выездами в районы на библиотечной «газели»
(обычно 5-6 участников – в основном, «творческая
интеллигенция»). Таких поездок уже набралось два
десятка за два года так называемых «мобильных
Твардовских чтений». Много времени на это
уходит, да и того же, грубо говоря, бензина, а в
районной библиотеке соберётся иногда человек
20-30.
Обидно? Не без того. Но… что-то остаётся, что-то
меняется. Всегда. И в нас, участниках, и в тех,
кто приходит «просто послушать». Нам кажется,
что образуется и ширится некая связь – между
всеми. Что мы приняли и передаём как бы
эстафету. И не только в пространстве, но и во
времени. Здесь есть нечто от ритуального
действа… И без этого чувства, общего для всех
участников, не было бы наших встреч, не было бы
поездок… и ожидания этих поездок и встреч.
Но есть и «кроме». Всегда есть что-то ещё, чего
не даст самое тщательное текстуальное изучение
биографии и произведений А.Т. Твардовского.
Вот один только выезд в Глинку во второй
половине сентября этого года. Казалось бы, всего
две тысячи населения в этом райцентре, пять
тысяч – во всём районе. Но на территории его
столько всяких знаменитых древностей, дворянских
усадьб… И детство-отрочество Твардовского,
почитай, всё тут. Белый Холм и Ляхово – где А.Т.
учился, и Язвино – где крестился. Увы, о
последних двух, некогда больших и славных селах,
уже надо говорить «были».
Но не удержались – после встречи в библиотеке
поехали посмотреть. Сначала, конечно, в Ляхово –
благо асфальт при Советах проложили (планировал
ещё В.И. Атрощенков, будучи начальником
областного управления культуры, экскурсионный
маршрут, включая Загорье и Новоспасское).
Признаться, с особым пристрастием вглядывался в
меняющийся за окном автобуса пейзаж – готовился.
Не так давно мы публиковали в «Смоленске»
воспоминания Константина Твардовского:
«Осенью 1920 года стали мы учиться в Ляховской
школе. Я — в пятом классе, Александр — в
третьем. Учили нас сестры-учительницы — Марфа
Карповна и Ульяна Карповна, в то время фамилия
их нас не интересовала. Позже я узнал, что
фамилия названных учительниц Галактионовы.
Ляховская школа размещалась в доме помещика
Бартоломея. Дом был двухэтажный, большой, с
печным отоплением. Учились мы с Александром не
лучше других, но и не хуже. Русский язык давался
Александру лучше, чем другим ученикам, а
остальные так, на среднем уровне. Иногда мы в
плохую погоду ночевали в школе, спали на полу.
Иногда таких ночлежников было до десятка.
Видимо, чтобы предупредить излишнее баловство,
вечером приходила к нам Ульяна Карповна с
томиком Гоголя и вслух читала нам рассказы,
читала как-то особенно хорошо. Слушали мы все
очень внимательно и про себя решали обязательно
научиться так читать. Это чтение в какой-то мере
прививало вкус и любовь к художественному слову,
к книге.
… Учась в четвертом классе, Александр написал, я
считаю, первое стихотворение «Раз я позднею
порой...»
Раз я позднею порой
Шёл от Вознова домой.
Трусоват я был немного,
И страшна была дорога,
На лужайке меж ракит
Шупень старый был убит.
Это стихотворение и стало первым кирпичом всей
поэзии Александра Твардовского. Стихотворение
было хорошо встречено дома и в школе. Оно,
пожалуй, было лучшим из написанного в
последующие полтора-два года».
Ну, положим, сам Александр Трифонович сообщает,
что стихи начал сочинять, когда еще буквы не
умел складывать. Но это так, «бурчалки и
пыхтелки». А тут авторитетное свидетельство
старшего брата – написал! Здесь его и дразнить
начали: «Паэт! Паэт!». Хоть сейчас мемориальную
доску вешай: «первый кирпич всей поэзии», первое
признание…
Да что там свидетельство брата Кости – сам
Твардовский на Всероссийском съезде учителей (аж
в 1960 году!) только один эпизод из своей жизни
вспомнил – здешний!
«… Это было много лет назад. В школе, только что
занявшей помещение бывшего барского дома,
который плохо отапливался, в окнах которого были
не все стёкла целы и было холодновато,
учительница – молодая девушка, как я теперь
понимаю (тогда она мне казалась очень взрослой),
– Ульяна Карповна сказала во второй примерно
половине учебного дня: «А теперь почитаем».
Она села на парту (я говорю – не за парту, а на
парту), чтобы видеть нас всех, поставила ноги на
скамью парты, и, кутаясь в какую-то шубейку или
пальтецо, объявила: «Гоголь, «Ночь перед
Рождеством». Я помню, был короткий зимний день,
стало уже смеркаться, учительница пересела ближе
к окну. Чтение шло. Я это рассказываю не затем,
чтобы передать, как было велико наше
впечатление, – оно, конечно, было необычайным, –
а затем, чтобы вспоминая этот один из
счастливейших дней моей школьной жизни, отдать
себе отчёт в том, отчего это впечатление было
таким. Оттого, что учительница так же, как мы,
была восхищена этим рассказом».
В память такого дня хоть на месте том постоять…
А «на месте том» дорога неожиданно упёрлась в
бурьяны и кончилась (вот туристов привезти!).
Две-три избушки сохранились всего от Ляхова (то
ли дачники живут?). По правую руку – съезд с
асфальта. Метрах в ста – пирамидка 60-х годов с
каким-то более поздним наращением. Можно
прочесть, что в Великую Отечественную деревня
сожжена вместе с жителями – больше трёхсот
человек (две с половиной Хатыни!).
Об этой трагедии упоминает А.Т. в «Родине и
чужбине», а в третьем сборнике Чтений мы
поместили статью В.Н. Станкевича «Братья
Худолеевы», где тоже упоминается Ляховская
трагедия, и не только ляховская.
«1942 год, – пишет В.Н. Станкевич, – был годом
широко развернувшегося на Смоленщине
партизанского движения. В Дорогобужском,
Ельнинском и Глинковском районах действовали
конники генерала Белова, ему помогали
партизанские соединения «Дедушки». Жители
Ляхова, Сельца, Чернёва и других деревень
оказались, как говорится, между молотом и
наковальней. Днем командовали немцы и полицаи,
ночью – партизаны отряда «Аркашка». Оккупантам
это в конце концов надоело, и они решили создать
так называемую «санитарную зону».
В середине апреля 1942 года они сожгли ряд
деревень, прилегающих к лесу (Ляхово, Сельцо и
др.) вместе с жителями.
– Когда я, – рассказывал Владимир Михайлович
(Худолеев. – Ред.), – увидел длиннющий обоз с
вооруженными людьми, объезжающий деревню, то
предложил матери немедленно уходить к знакомым в
дер. Уварово. В Сельце осталась наша родная
сестренка Женя, которая неплохо знала немецкий
язык и, как выяснилось позже, пыталась защищать
своих односельчан перед немецким офицером. Он
убил Женю из пистолета, выстрелив ей в лицо.
Нашли ее рядом со сгоревшей хатой, в которой
были сожжены ее односельчане. Таким образом, моя
семья большей своей частью спаслась, но дом и
имущество наши сгорели. Случилось это 13 апреля
1942 года.
(Прошу заметить, что благодаря Владимиру
Михайловичу читатели только что узнали о
героической гибели племянницы поэта – Жени
Худолеевой)».
Но село это (Ляхово) прежде, говорят, и французы
сожгли, тоже с жителями, – в первую
Отечественную. Поблизости одна из наиболее
славных русских побед над Наполеоном одержана
партизанами Давыдова и регулярными войсками, 4
тыс. пленных взяли. Офицеры и солдаты,
французские и русские, в немалом количестве, по
преданию, похоронены где-то здесь.
Было и польское кладбище (католическое). С
дороги показывают нам это место. Там бурьян
погуще, и рядом некая как бы заросшая просека в
нём просматривается – бывшая дорога на Загорье,
которое в «трёх-четырёх верстах». А с другой
стороны дороги – православное кладбище (заросли
пожиже, но никаких крестов не рассмотреть).
Собственно, поначалу мы тропинку, а потом и
колодец разглядели – напились вволю, жарко. Вода
– сказка! Тут вожатый наш подоспел (местный
краевед А.Е. Злакоманов) и сказал: зря, мол,
пили, кладбище тут. И добавил, как бы
успокаивая: «Православное»…
Вообще, Злакоманов в своё время был в районе
главным экологом, но в 2000-м году, как
известно, экологию у нас упразднили. А то он
этот колодец копать не разрешал, по санитарным
нормам. Сейчас А.Е. Злакоманов – директор
местного музея, на полставки. Мы спросили,
откуда такое название у села – может, его и
поляки в Смуту жгли? «Очень даже может быть, –
согласился краевед. – Место здесь бойкое. Мы,
собственно, на Старой Смоленской дороге сейчас
находимся. Только это не парадная дорога, по
которой курьеры, почта, кареты всякие ездили.
Здесь скот гнали, обозы торговые двигались.
Поляки в этом селе долго жили. Вот и кладбище у
них своё. Думаете, тут давно так? Нет. Тут такая
красота была. Как-то резко в 90-х годах рушиться
стало… Теперь – как и не было ничего».
Вышли на асфальт и потихоньку вдвоём (остальные
отстали) пошли назад, откуда приехали. Автобус
догонит, а хотелось напоследок хоть на старые
помещичьи пруды поближе взглянуть: перед въездом
в деревню мелькнули они с обеих сторон дороги, а
раньше место проехали, где «барский дом» стоял
(та самая школа). Но до водоёмов дошли не вдруг:
«Вот там, видите, яма – это церковь была, –
показал Злакоманов. – Деревянная. Там, рядом,
старинные могильные плиты оставались, помещичьи.
Надо посмотреть». И он решительно свернул в
бурьяны. Пропал из виду минут на пять. Вылез,
чертыхаясь и обирая с одежды репьи. Я молча
помогал.
«Ничего не нашёл. Видать, смоленские на
памятники вывезли. Роскошные плиты – только
надписи сбить...»
А потом мы смотрели на большие, старинные пруды,
и убеждались, что они, действительно,
затиниваются и заиливаются – в общем, зарастают.
Мой проводник сетовал, что дорожники высоко
подняли трубу, которая соединяла искусственные
водоёмы.
К ним раньше террасами спускался парк,
украшенный редкостными деревьями и цветочными
кустами. Были, видимо, и купальни, лодки. Сюда
спускались от двухэтажного дома сами Бартоломеи
и их гости… А потом и братья Твардовские со
товарищи вряд ли к такой водной благодати
оставались равнодушны. Это сейчас не пробиться к
берегам, «поросшим всякой дрянью запустения»…
Вот эта фраза из записи, сделанной А.Т. в
рабочей тетради 26 октября 1943 г., не шла у
меня из головы. «Не нашел ни одной приметы того
клочка земли, который, закрыв глаза, могу
представить себе весь до пятнышка с пятачок и с
которым связано всё лучшее, что есть во мне –
поэтическая способность. Более того – это сам я
как личность. Эта связь была дорога для меня и
даже томительна», – это об освобождённом
Загорье. И это о сегодняшнем Ляхове. От
усадьбы-школы, где А.Т. учился, даже фундамента
не осталось. И парк практически уничтожен. На
что уж дуб – и тот совсем засох, странным
образом поврежденный.
– Должны остаться чертежи, – слышал я голос
Александра Егоровича. – Обязательно их надо
найти и сохранить!
– Зачем? – автоматически спросил я.
– Восстановим! Обязательно восстановим!
«Если так стёрто и уничтожено всё то, что
отмечало мое пребывание на земле, что как-то
выражало меня, – припоминал я 65-летней давности
запись, которую не раз уже цитировал, – то я
вдруг становлюсь свободен от чего-то и не
нужен».
Именно «стёрто и уничтожено… и не нужен». Но
ведь нужен, необходим! У Твардовского дальше: «…
именно поэтому я должен жить и делать свое дело.
Никто, кроме меня, не воспроизводит того
неповторимого и сошедшего с лица земли мирка,
который был и есть для меня и теперь, когда
ничего от него не осталось...». И ведь
воспроизвёл – не просто «маленький мирок», а мир
через него! В случае чего, мы и без чертежей
восстановим «всё то, что отмечало … пребывание
на земле». Вот это, чуть переиначенное из
«Разгрома» – жить и делать своё дело (исполнять
свои обязанности) – А.Т. часто повторял. Чего
ещё придумывать? Не «восстановим», а
восстанавливаем уже. С каждыми чтениями, с
каждой поездкой, с каждым выступлением, с каждым
новым участником – хоть на гран, а растёт «дом
Твардовского». И, значит, недалеко то время,
когда количество перейдёт в качество –
принципиально новую оценку всемирно-исторической
роли творчества А.Т., созданной им литературы.
Как раз в те дни попалось мне на глаза
высказывание видного учёного и мыслителя В.И.
Вернадского, датированное 1927 годом: «Мне
кажется, что... история нашего народа
представляет удивительные черты, как будто в
такой степени небывалые. Совершался и
совершается огромный духовный рост, духовное
творчество, не видные и не осознаваемые ни
современниками, ни долгими поколениями спустя. С
удивлением, как бы неожиданно для самого народа,
они открываются ходом позднейшего исторического
изучения.
Первой открылась взорам мыслящего человечества и
осозналась нашим народом русская литература...
Но великая новая русская литература вскрылась в
своем значении лишь на памяти живущих людей.
Пушкин выявился тем, чем он был, через несколько
поколений после своего рождения. Еще в 60-х один
из крупнейших знатоков истории русской
литературы, академик П.П. Пекарский... ставил
вопрос, имеет ли русская литература вообще
какое-нибудь мировое значение или ее история не
может изучаться в одинаковом масштабе с историей
великих мировых литератур и имеет местный
интерес, интерес исторически второстепенный. Он
решал его именно в этом смысле. Это было после
Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Гоголя, в расцвет
творческого выявления Толстого, Достоевского,
Тургенева. Сейчас взгляд Пекарского, точно
выражавшего народное самосознание того времени,
кажется анахронизмом. В мире — не у нас —
властителем дум молодых поколений царит
Достоевский; глубоко вошел в общечеловеческое
миропонимание Толстой. Но мировое значение
русской литературы не было осознано ее
народом... Когда де Вогюэ (автор книги «Русский
роман», изданной в Париже в 1886 году. — Ред.)
обратил внимание Запада, в частности сперва
французского, на мировое значение русской
литературы, когда началось ее вхождение в общее
сознание,— именно этот факт открыл глаза и тому
народу, созданием которого она является. Он
понял, что он создал».
Собственно, об этом не только у Вернадского. И
раньше и позже подобные мысли об особенностях
нашей истории и ментальности высказывались. Но
здесь не всё так. Не один академик Пекарский
был, а были десятки и сотни подвижников в
России, которые задолго осознали мировое
значение и Пушкина и русской литературы,
русского искусства в целом. С пушкинских времён
литературные русские журналы безоговорочно и
надолго стали властителями дум и сердец
общества. Оговоримся – просвещённого общества. И
я бы не расписывался, говоря о том времени, за
весь «народ», ибо многомиллионные «народные
массы» от литературы были отторгнуты и в силу
неграмотности, и в силу официальной идеологии.
Почва готовилась многими трудами. И до француза
дошло – поэтому, и поэтому такой стремительный
взлёт, такое триумфальное явление миру.
Нет, Вогюэ был только внешний толчок, только
повод «открыть глаза» всему миру, официальной
идеологии, но не «тому народу, созданием
которого она (литература) является». (Удивляться
нужно, каким образом литературные творения,
зачастую безымянно, всё же приходили, и жили, и
были любимы неграмотным народом).
Такой толчок нужен и сейчас – в отношении
Твардовского и выпестованной им литературы,
которая пока смазана и сокрыта под аморфным
(разнородным) понятием «советская литература»
(не говорю уж про «смоленскую школу»). Много
яснее для нас – «авторы «Нового мира»,
«новомирская литература». Но и это не полно так
же, как «писатели-деревенщики» – одна из
составляющих – и проч. Именно «как бы
неожиданно… открывается ходом позднейшего
исторического изучения», событиями конца второго
и начала третьего тысячелетия, что Александр
Твардовский – самая значительная фигура ХХ века,
не только в литературе, но, как говаривали во
времена его юности, в мировом масштабе.
… В Белом Холме и сегодня, слава богу, живут
люди. На месте трехэтажного «замка» (так
называет в воспоминаниях одна из соучениц бывшую
усадьбу Каховских, где А.Т. учился в шестом
классе) – по-прежнему школа, только одноэтажная
и деревянная. Зайти не получилось (поздно
приехали), а у старых лип, которые и А.Т.
помнят, сфотографировались на память...
 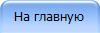
|
|